как чаще всего результаты нас не удовлетворяют.
- И очень часто мы испытываем счастье тогда, когда мы
этого вовсе не ожидаем. То есть удовлетворены какие-то наши глубинные
желания, о которых мы и понятия не имели.
- Неизвестно, как поведет себя человек, столкнувшись с
одним и тем же фактом. Что это означает? Что человек нестабилен, что он
что-то вроде тумана или броунова движения? Нет. Стабильнее человека нет
ничего. Только стабильность его высшего порядка. Все его бесчисленные, не
поддающиеся учету реакции обеспечивают его главную стабильность, которая
делает его человеком и безошибочно отличает его от любого животного вида.
- Что же это за отличие?
- Не кажется ли вам, что единственное, что делает
человека человеком, это вовсе не способность вычислять, и анализировать, и
делать выбор - это умеют делать машины, не приспособляемость - это умеют
даже бациллы, - не кажется ли вам, что человека делает человеком только его
способность к сочувствию, распространяющаяся на окружающих?
- Вы скажете, что это тоже мысль, и, стало быть, -
упрощение?
- Да, но только в той мере, в которой она выражена
словами.
- Подберите любой термин, назовите это чувство
нежностью, этикой, душевностью, состраданием, милосердием, совестью,
взаимопониманием, каким угодно словом назовите это чувство - наблюдение
останется верным: все человеческое связано у человека с этим, все звериное
или машинное - с отсутствием этого. Чего этого? Человечности. Человечности!
- Так нельзя ли, спросил я себя, не дожидаясь, когда
станет известен механизм человечности, придумать механизм, улавливающий и
использующий симптомы гуманизма? Если есть это чувство - должны быть и его
симптомы.
- Любое чувство - это процесс, то есть некая энергетика,
и, следовательно, на выходе всегда изменение биотоков. Значит, их можно
записать, получить энцефалограмму любого чувства, в том числе и главного
этого.
- Если можно записать энцефалограмму, то ее можно и
воспроизвести. Можно построить генератор, способный передавать на
расстояние прихотливую звенящую энцефалограмму человечности, и она будет
накладывать свою синусоиду на весь спектр человеческих биотоков, и вызывать
резонанс, и отзываться эхом в человеческой душе, и, стало быть, эта задача
при всей ее сложности чисто техническая, а это уже по моей части. Так думал
я.
- "Послушайте, - думал я, - а разве мы не занимаемся
этим повседневно? Разве вся педагогика, воспитание, школа, семья с самого
нашего детства не занимаются тем же самым? Только они это делают словами,
звуками, красками, которые вызывают образы, а я обойдусь без промежуточного
звена и, стало быть, смогу проще дойти до больших глубин и сделать рефлекс
человечности устойчивым, как потребность".
- Но тут передо мной вставал другой вопрос. Где взять
образцы?
- Кто решится энцефалограмму одного человека сделать
эталоном для всех остальных? В любом случае остается сомнение: а нет ли
более высокого образца? И кроме того, где доказано, что сама человечность
статична, не изменяется, не эволюционирует? Где доказано, что в каждом
следующем поколении не может быть достигнута более высокая ступень? Кто же
решится остановить этот великий процесс и загнать человечность в одну, даже
самую просторную, колодку?
- Так возник вопрос о последствиях.
- Сегодня уже нельзя отмахнуться от этического смысла
науки вообще и любого эксперимента в частностисти. Поняли уже, наконец, что
научное открытие, изобретение не нейтральны. Молотком можно забить гвоздь,
но можно и пробить голову. Важно, в чьих руках молоток.
- Науку остановить нельзя, но ученые повзрослели, и
никто уже теперь не идет на эксперимент, не предусмотрев "фул пруф", защиты
от дурака, не разработав техники безопасности. Панорама домов уходила в
легкий августовский туман.
- Я выпил молока и стал тихонько убирать захламленную
мастерскую. В душе у меня звенели трамваи моего детства.
- Она все еще спала.
- Благородная норма, - сказал когда-то старик.
- Она спала.
- Я наклонился и стал смотреть на эту вздрагивающую на
шее голубую жилку, в которой была заключена светлая и яростная надежда всей
мыслимо обозримой вселенной.
- Как же мне было поступить? Как же снять противоречие
между необходимостью проверить эту идею (чересчур заманчивы были
последствия) и необходимостью обезопасить человечество от этой идеи
(чересчур страшны были последствия)?
- А выход нашелся очень простой. Вот какая моя задача -
лично моя, какая моя задача конкретно, как ученого? Моя задача:
смонтировать генератор, способный глушить синусоиду бесчеловечности. Вот и
все. - Вот и выход из моего противоречия науки с этикой.
- Не нужно создавать единого эталона человечности и тем
тормозить ее эволюцию. А нужно глушить бесчеловечность и тем тормозить ее
эволюцию.
- Создавать идеалы - это дело оторвавшегося от земли
Памфилия и держащегося за землю Якушева.
- Я не художник. Не мое дело создавать идеалы. Мое дело
- выпалывать все, что мешает их цветению.
- Кто мне в таком деле поможет? Человек, которому легче
всего взглянуть со стороны на земную норму, на человеческий вид в целом и
который, с другой стороны, сам бы ничем не отличался от нормального
человека. Кто же это? Вы угадали. Марсианин.
- А теперь надо рассказать о четырех ребятах, из-за
которых все окончилось благополучно. Если, конечно, можно считать
благополучным неудавшийся эксперимент.
- Главная среди этих четырех была одна гречанка. Я тогда
еще понятия не имел, что она старая знакомая Кости Якушева.
- Она была немножко лохматая, с огромными, не то
огненными, не то меланхоличными глазами. Рот у нее был всегда полуоткрыт.
Бывало, уставится и смотрит. И не поймешь, думает она о чем-нибудь или
просто ждет, когда же ты, наконец, уйдешь.
- Сначала все считали ее глупой. Но это быстро прошло.
- Телка, - сказал наш сотрудник Кожин. - Уставилась и смотрит. Интеллект на
точке замерзания.
- И еще многое говорил. А потом совсем интересно
говорил. Мы все забыли даже, из-за чего он разговорился. А когда стало
совсем интересно и он уже одобрительно поглядывал на нее и думал: вот,
наконец, у нее что-то живое в глазах, - в этот самый момент она усмехнулась
и спрашивает его:
- Стараешься?
- А потом пошла прочь и сорвала травину длинную и
голенастую. А мы смотрели, как она шла, далеко отставив согнутую в локте
руку, так как травина была длинная и голенастая и светлый конец травины она
держала губами.
- Как она шла! Посмотрели бы вы, как она шла! А у Кожина
был бледный вид.
- Он опять заговорил о чем-то, но Толич сказал:
- Тебя почему-то интересно было слушать, пока она здесь стояла. А теперь
неинтересно. А может быть, ты глупый?
- Кожин тогда повернулся и ушел. От Толича всегда можно
было ожидать нелепых выводов. Он этим славился.
- А как она танцевала! Боже! Она распускала тяжелый
пучок волос, встряхивала головой и роняла волосы на спину. Грива! И тогда
она начинала танцевать. Кисти рук отведены в стороны, шаги длинные,
повороты - не уследишь, талия - как тростинка! А в глазах опять никакого
выражения. Нельзя понять - интересно ли ей, что на нее смотрят, или она
просто дожидается, когда устанут на нее смотреть и разойдутся. И все время
летающая грива волос.
- А в общем-то она не задавалась, не была недотрогой или
какой-нибудь одинокой. Она дружила с тремя ребятами. Самыми неинтересными
из всех, каких вы когда-либо встречали в своей жизни. Иногда вы могли их
увидеть всех четверых. Тогда она клала кому-нибудь из них руку на плечо, и
все четверо смотрели на тебя.
- Потом они уходили.
- Больше всего раздражало то, что вот так рассмотрят,
взвесят и уйдут. И не то чтобы они при этом понимающе переглянулись или
потом поговорили о тебе, обсудили. Нет. Просто у них было единое мнение на
все. Поэтому они посмотрят на тебя и уйдут, и каждый из них будет уверен,
что у каждого из них, у всех, одно и то же мнение. Вот собаки!
- Можно подумать, что наедине они вели содержательные
беседы - рассказывали друг другу сюжеты фильмов, задавали друг другу
вопросы: "А как ты провел день?", или: "Нравятся ли тебе новые стихи,
напечатанные в газете?" Нет. Наедине они все четверо не вели содержательных
бесед. Не вели они также бессодержательных бесед. Они не вели никаких
бесед. Они молчали.
- Можно было подумать, что у них уже все рассказано друг
другу. Нет. Они понятия не имели о прошлом друг друга. Это было известно
точно. А может быть, они были связаны какой-нибудь тайной? Или они родились
в одном доме или в одном роддоме?
- Или родители их погибли, завещав им... В общем на
любое предположение, которое может вам прийти в голову насчет того, почему


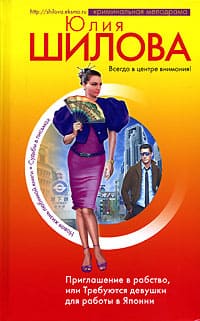
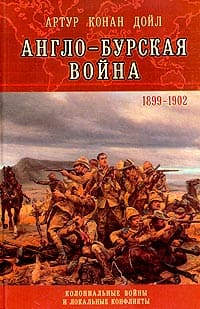


 Корнев Павел
Корнев Павел Русанов Владислав
Русанов Владислав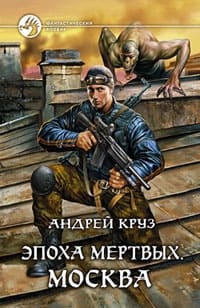 Круз Андрей
Круз Андрей Перумов Ник
Перумов Ник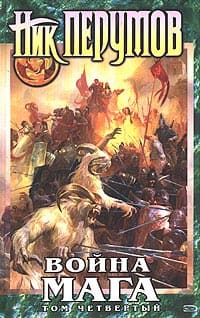 Перумов Ник
Перумов Ник Майер Стефани
Майер Стефани