придумать. Она вся покупная и продажная, давно уже не действует на душу, а
только на уши, и каждое произведение эстрадное отличается от другого
эстрадного произведения только своими децибеллами. Одни децибеллы
медицински вредные, другие - все еще медицински терпимые. Вредные ведут к
глухоте (после 90 децибелл допустимых), а невредные - оставляют надежду
что-то услышать.
- Песни эстрадные отличаются друг от друга не словами,
которых все равно нельзя услышать из-за шума, и слава богу, потому что
когда удается услышать слова, то не то чтобы непременно хотелось умереть,
но возникало сожаление - зачем я родился? Но так думать было несправедливо
и я гнал эти мысли. Потому что допрыгаться до смерти - в этом было, по
крайней мере, хоть что-то самодеятельное, зависящее от меня; но уж в своем
рождении я был начисто неповинен.
- Когда меня зачинали и я рождался, тут уж меня, как и
всех других, ни о чем не спрашивали. И в том, что я родился, моей вины нет,
как нет и заслуги. Хотя есть верование и, стало быть, теории на этот счет:
что и тут я ошибаюсь и что факт моего рождения есть последствие предыдущих
моих смертей, хотя и в других обличиях. Так что на все есть свои теории.
- Но меня останавливала мысль, которую однажды высказал
мой сын моей супруге, когда она однажды разбушевалась (хотя для этого не
было видимых и невидимых причин). Сын мой тогда ей сказал:
- Мама, ты главное, не вникивайся
- И я решил "не вникиваться"!
- Что же мне оставалось? Да почти ничего! Только
ожидание. Но я сам себя стреножил.
- И я все-таки дождался! И притом в той даже области,
какой тоже не придавал значения, и не придавал значения именно в силу ее
распространенности. Напрасно думают, что труднее всего разглядеть редкое и
неожиданное. А все как раз наоборот. Когда его много - о нем не думают, оно
как воздух, о котором вспоминают, когда дышать нечем. Таежному жителю
труднее заметить воздух, чем горожанину с асфальта. Это же ясно.
Примелькалось.
- Чего было больше всего в эфире? Конечно, эстрады.
Многие так и считали, что хорошая жизнь - это когда много разной
мануфактуры и много эстрады. Хотя от мануфактуры и эстрады хорошей жизни не
прибавлялось, а прибавлялась только судорожная. Но это - на чей вкус!
- Как я мальчишкой любил джаз! Даже описать невозможно.
Я честно в школе изучал утверждение, что джаз - это музыка для сытых. Пока
однажды не сообразил: ну и что плохого? Что плохого, что люди сыты? Разве
мы сами не к этому стремимся? Накормить всех, а не только богатых. А если
сытые захотят слушать другую музыку, что в этом плохого? Формула "музыка
для сытых" не то призывала нас всю дорогу быть голодными, не то обещала,
что сытые и богатые это одно и тоже. Но в любом случае - какое отношение
это имело к музыке и джазу?
- Никакого! Как мог Горький не заметить, что это была
музыка улицы? Это же слышно каждому. Она была ресторанная музыка, ну и что?
Где ее было играть? Играют там, где платят. Раньше и за старинную музыку
платили, за классику платили. А кто платил? Те же сытые. Но классика уже
забыла, что она зародилась на улице, а джаз ей это напомнил.
- Неужели Горький всерьез думал, что музыка там, где
консерватория? Неужели Горький забыл, что музыка раньше консерватории?
Неужели он забыл, что живопись раньше анатомии и академий? И что язык
раньше грамматики? Искусство зарождается раньше его изучения, потому что
изучают то, что есть. А чего нет, то и изучать еще рано и невозможно.
Неужели было незаметно, что в музыку вошла улица? Голодная, негритянская
улица! Которая пела и играла свою музыку. И напоминала каждому, откуда он
произошел. И доходила именно до души.
- Кто хотел ее слушать, должен был либо идти на улицу,
либо допустить, чтоб Она пришла к нему. За это надо было платить. Какая же
это музыка для сытых? И уж во всяком случае, какая же это музыка сытых?
Потому что сытый-то он сытый, но и он помрет. И знает про это. И именно
музыка улицы ему об этом напоминала.
- А старинная европейская музыка, которую слушали в
аккуратных залах, уже давно ни на что не влияла, кроме как на такие же
аккуратные вздохи и чванные эстетские улыбки. Нет, джаз было другое. Джаз
нес надежду на то, что улица не задавлена. А пока она не задавлена, все еще
может образоваться. Потому что жив человек Адам со своими грехами. Тут даже
этнография потихонечку приходила к выводу, что Адам был негр, черненький,
абориген, из которого потом произошли все разноцветненькие и чванные.
- Вот что такое был джаз, в котором не услышали
протеста! Но потом и его купили. И стали джаз выпускать, как ширпотреб, как
музыкальную мануфактуру. Но я не мог понять, что в сегодняшней эстраде
видят те, которым она нравится? Потому что уж чего-чего, а новинки в
нынешней эстраде не было начисто. Сегодняшняя эстрада со всеми ее методами
оставляла меня равнодушным, как тряпье, которое не становится лучше, даже
если его называть дизайном.
- Сегодняшние металлисты (хеви металл) эстрадные,
которые разграбили все сегодняшние свалки вторсырья, издавали музыку.
которая была похожа на песни заик. И как раз, когда я так решил, я
услышал... Естественно, случайно включил и услышал и увидел передачу о том,
как лечат заик. Вот только тут до меня дошло.
- Прекрасная милая женщина, доктор (кажется, ее фамилия
Сорокина), нашла способ лечить заик, и показывала это наглядно, при всех.
Она брала любого заику, а их там был целый зал, просила его выйти на
эстраду и спрашивала, как его зовут. И несчастный человек что-то лепетал,
заикаясь. И тогда доктор просила его поверить только в одно, только в одно
- что человек может все. Любой. В том числе и заика. И что он может на
глазах у всех начать говорить, не заикаясь. (А заика к тому времени уже
всякую надежду потерял.) Она возвращала ему надежду. Потому что ведь и он
когда-то не был заикой.
- Начиналось у всех по одной и той же причине: как бы
человек ни говорил - его одергивали и все время поправляли. Всегда
находился кто-нибудь, кто его поправлял. Кто криком, кто теорией. И человек
пугался, начинал пристраиваться к кому-то бездушному. Начинал заикаться,
начинал не уметь произнести даже свое имя и фамилию. Потому что чересчур
много правил для отдельного человека. И душа его костенела. И вот эта
прекрасная женщина-доктор говорила ему:
- Миленький, стисни низ живота, а верхнюю часть (ну там, где сердце),
освободи. Как тебя зовут?
- И ошеломленный заика четко произносил свое имя и
фамилию. А потом то же самое делала с другим заикой. Обучала тут же, на
глазах.
- Женщина говорила:
- Человек может все!
- И это подтверждалось наглядно. Это было, как чудо.
Чудо любви и освобождения. От идиотских правил, душегубных правил,
скопившихся в цивилизации. А то ведь заиками становились все умные и
честные, которые хотели выполнить все правила. Но это было сделать
невозможно. Тогда они наглядно, на глазах друг у друга посылали правила...
посылали их все. Как можно подальше. И начинали говорить.
- Потому что человек может все!
- И я это видел сам. И потому все понял. Потому что был
уже к этому готов. И понял, что вся сегодняшняя эстрада, против которой я
так негодовал,- это самостоятельная попытка излечиться от заикания. Потому
что как ни сыграй - все как-нибудь да не по правилам, все что-нибудь не
так. И среди своры нападающих был и мой лай. Увы, мой лай, лай моих
претензий! Потому что они ни на кого не походили, ни на одно из правил,
даже на мои. И им, чтобы перестать заикаться, нужно было прежде всего
послать их все... Они это и делали.
- Прислушиваться к себе и совершать новинки и
музыкальные открытия они будут потом. Сначала надо было перестать
заикаться...
- Вспомнил, как зовут прекрасную женщину-доктора.
Случайно вспомнил. Поживому. Ее зовут Юлия Борисовна Некрасова.
- Люди начинают заикаться, потому что начинают говорить
не то, что думают, и привыкают к этому, потому что, что бы они ни говорили,
всегда идет одергивание и попрек: "Не так, не так, не так... не то, не
то..." Чего же удивляться после этого заиканию? Сначала надо наладить
нормальную речь.
- Окрыленный успехом, я начал искать более
целенаправленно. Женщины и дети, женщины и дети... Если первая находка
пришла от лица Тони, то вторую я мог ожидать от своего грандиозного
собственного сына. А от кого же еще? И я удвоил внимание.
- Он по рождению мальчик, значит, в перспективе будущий
мужчина; и отличается он от будущих мужчин, в том числе от меня, только
одним - ему пять лет, с половиной. Значит, все идеи, мужские, у него
первичные, а не переученные взрослыми поправками, хотя он иногда уже и
заикается. Значит, влиять начало и на него. Надо было торопиться.
- Сейчас в своем лучшем виде он такой "лихой,
молоденький и голенький". И уже маме велел "не вникиваться". Поскольку он
будущий мужчина, он круглые сутки сражается. Как просыпается, так и
начинает сражаться. И я ему не мешаю, и даже покупаю пластмассовых воинов.
У него их целая армия. Есть и пираты.
- А зачем тебе пираты? - я спрашиваю.- Они же людей резали. Ты тоже хочешь
людей резать?
- Нет,- говорит он,- я же понарошке.
- И вижу, что он тоже "не вникивается". Понарошке - это
значит спорт, самое распространенное мужское занятие. И тоже незаметное,
как воздух. Так его много. Но меня это уже не смущало.


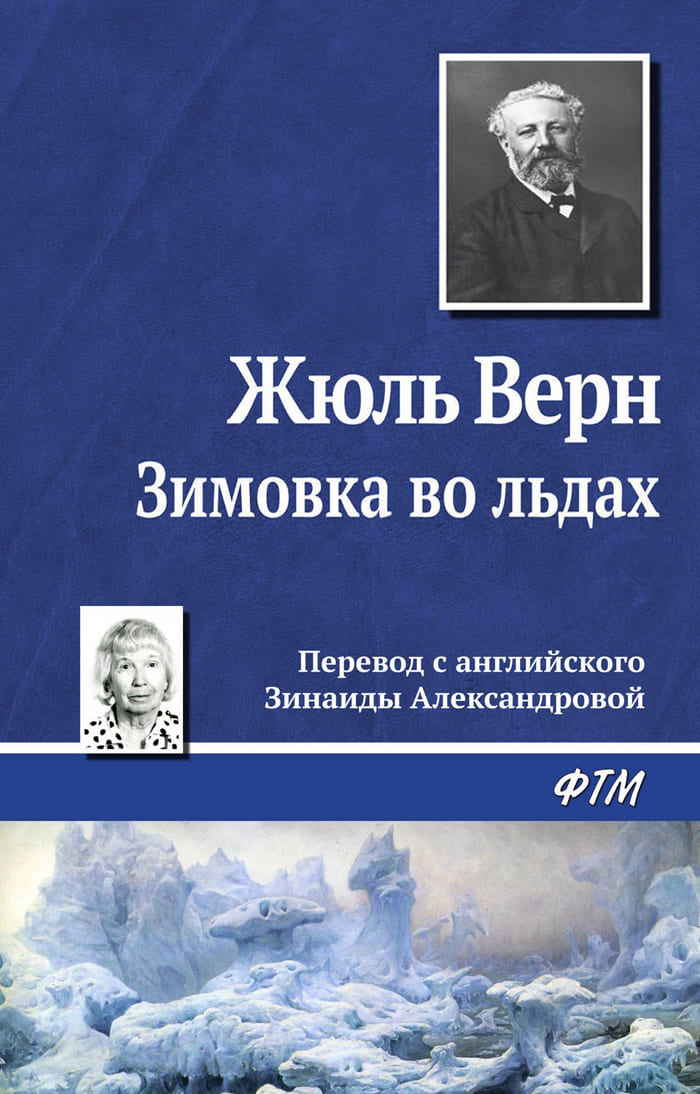



 Посняков Андрей
Посняков Андрей Трубников Александр
Трубников Александр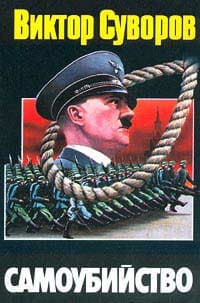 Суворов Виктор
Суворов Виктор Юрьев Сергей
Юрьев Сергей Емилина Ника
Емилина Ника Куликов Роман
Куликов Роман