снедало лихорадочное оживление. Было два часа ночи. Я понял, что лучшее,
что можно придумать, это заночевать у Кости. Вернулся Митя и обеспокоенно
сообщил, что сейчас приедет его невеста. Он для нее дома оставил здешний
телефон. Видимо, что-то случилось. Тут загорелся совершенно новый спор все
о старом. Я не слушал. Я даже не думал ни о Кате, ни о схеме. Потому что я
был счастлив. Потому что я знал твердо - достаточно сказать "Катя", и я
сразу вспомню схему во всех деталях. Тут Митя начал орать невесть что и
сказал о своей невесте что-то вроде того, что у него будет и романтика в
норме, что он свою невесту нашел путем последовательного ряда опытов и
размышлений и, следовательно, разумно и т. д. и что-то еще в этом роде
(кажется). А я уже ничего не понимал, и только балдел, и слышал какие-то
странные слова, похожие на бульканье - раз, мышл, оп. Я только понимал, что
все не так.
- Я тоже нашел невесту, - сказал я.
- Да! - заорал он. - Но я нашел разумно, а ты случайно.
прошептал я ехидно.
не знал, что и он знал кое-что, чего я не знал.
- Вот моя невеста, - сказал Митя. Я пригляделся и узнал Катю.
плохой смех. Я не мог остановиться.
всех, когда я смеялся, и еще я увидел испуганные лица всех остальных и
выбежал вон.
вызвал лифт. А сам поскакал по лестнице вниз, под гудение идущего мне
навстречу лифта. Несколько пролетов я съехал на каблуках. Лифт проплыл
вверх, и я, задрав голову ему вслед, догадался, что он едет погрузить меня
и отвезти вниз, и не знает, меня-то там нет наверху, я уже давно мчусь
вниз, съезжая, словно на коньках, на подошвах новых ботинок, которые
называются древним словом индейцев и гимназистов - "мокасины".
съехал на заднице. Это было неимоверно смешно. Я и смеялся каким-то
козлиным смехом и не мог остановиться. Я открыл в себе залежи юмора, просто
пласты какие-то.
клоунским улицам, заляпанным светом реклам. Очередь клоунских пингвинов на
крыше большого здания вспыхивала идиотским синим светом и призывала
покупать мороженое, есть мороженое, жрать мороженое, захлебываться
растаявшей жижей и обсасывать размокший целлофан. А когда я увидел, что
один пингвин не зажигается, не вспыхивает и в очереди пингвинов
образовывается черный провал, как будто выбили зуб, я чуть не умер от
хохота, однако не умер и чуть не упал, поскользнувшись на размокшем
целлофане, размокшей обертке от мороженого, которую судьба кинула мне под
ноги. Я устоял, выделывая антраша, и ввалился в метро, и меня пропустили,
несмотря на веселье, и я поехал вниз, расставив руки и ноги, вцепившись в
резиновые поручни, и навстречу мне, снизу, поднимался шутовской эскалатор
метро, и ползли навстречу мне лица, лица, и каждое следующее было смешнее
предыдущего - ни одного человеческого молодого лица, все старые
замордованные обезьяны поднимались вверх. И все они были мне мучительно
знакомы, и от хохота я не сразу вспомнил, на кого они были похожи, потом
вспомнил: они были похожи на меня, это я сам ехал себе навстречу и с
отвращением смотрел на себя хохочущего, потерявшего достоинство.
нет нужды описывать потому, что она не представляет никакого интереса, и
была ночь, белые бабочки метались у матового плафона под потолком. А за
окном ночь и огни до горизонта, а внизу на площади, где в праздники танцуют
под популярную музыку, сейчас было пусто, и машины мчались вверх по улице и
вниз по улице, и справа - телеграф со светящимся земным шаром, а слева -
бой часов с кремлевской башни.
фотографии с одеяла и кладу их в серый пакет, а пакет в раскрытый чемодан,
рядом с целлофановым мешочком с орденами и связкою конвертов. Потом я
ложусь на кровать одетый и беру газету под названием "Вечерняя Москва" и
читаю, что:
поколение медвежат",
ясно: человеку не пятьсот тысяч лет, а гораздо больше, и опять не смеюсь.
отпечатанный, миниатюрный такой земной шарик, я чиркаю спичкой и закуриваю.
Я поднимаю голову и смотрю, как у матового плафона кружатся ночные бабочки,
а на потолке мечутся их огромные тени. Я включаю приемник и слышу, как по
радио кто-то поет популярную песню: "Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя
снова и снова". Потом я длинным дрожащим вздохом затягиваюсь папиросным
дымом и плачу. Я оплакиваю Шурку-певицу, себя, и Катарину, и красавца
мужчину, и весь наш класс, и Юру Коробова, и Борю Дудника, и Юру Егорова, и
Сашу Мыльникова, и Надю Гордиенко, которая умерла от штыкового ранения в
живот, и это совершенно невозможно себе представить, что нашелся на свете
человек, который мог ударить ее в живот штыком. А потом я начинаю совсем
доходить и гашу свет, и тогда я вижу звезды, и тогда я оплакиваю Анюту и
Толича, потому что не знаю, что с ними будет, и оплакиваю Катю потому, что
знаю, что с ней будет, и оплакиваю Вивьен Ли и ее партнера за то, что они
не встретились и пропала любовь, одной любовью меньше на земле, и оплакиваю
картину "Мост Ватерлоо" за то, что кинокартины идут несколько недель и
потом уходят навсегда, и следующие поколения не знают, отчего плакали
предыдущие поколения, и теряется мостик, и каждый раз надо начинать снова и
искать новую тропку. Последним я оплакиваю Вильяма Сарояна, который
придумал Вексли Джексона, который придумал оплакивать всех, кого он любил,
а любил он всех, а я не могу любить всех, так как я не могу любить
фашистов, хоть режь меня на куски, а Сароян не знает, что где-то в Москве
плачет не очень молодой уже человек, который в этот момент, когда у него
лопнула, словно шарик голубой, придуманная за один день любовь, вспомнил
хорошего человечного писателя, когда отбирал себе книжки в дальнюю дорогу,
который почему-то живет черт его знает как далеко, хотя все хорошие люди
должны жить под боком, иначе разрывается сердце и чтобы можно было сказать:
"Хэлло, Вильям, я не знаю английского, но моя приятельница Катя знает
английский, а мой сослуживец Газиев знает армянский, и они переведут все,
что хочешь сказать, а остальное я пойму по глазам, потому что мне сорок
лет, и уже изобрели телепатию, и Москва - это не название гостиницы для
туристов, а мой родной дом, и у себя дома я все понимаю, кроме себя Х
самого. И вот теперь я плачу от своей страшной вины перед всеми, кого я
оплакиваю, оттого, что не успел сделать ничего фундаментального, что бы
помогло понять человеку, на что он способен, если он очень постарается
думать о других людях с добрым расположением".
это дело. Вытер сопли и вышел на улицу. Я чувствовал себя разгромленным
полководцем. Мне надо было собрать свои разбитые отряды и отвести их на
теплые квартиры и зимовать с ними до самой смерти. Просто закончилась моя
невероятная любовь, которая продолжалась несколько часов. Если не считать
девочки Катарины, о которой я уже не знаю теперь, была она или нет, или это
сон страшный, который приснился мне в детстве и который я помню всю мою
жизнь, то в эти несколько часов началась и закончилась моя первая и
последняя настоящая любовь, которая толкнула меня на открытие моей дурацкой
невероятной схемы, позволяющей общаться с другими галактиками, но не
помогающей при разговоре с соседом. Мне не повезло. Мне совсем страшно не
повезло, товарищи. Попробуй разобраться, кто в этом виноват. Я сам прежде
всего.
пешком, чтобы убить время. Я рассчитывал прийти, когда начнут открывать
двери. Я все начисто забыл. Сказалась перегрузка этих суток. Прохлестать в
памяти всю свою жизнь, прийти к открытию и рухнуть -это не шутка. Я шел
просто так, на всякий случай. Смешно было надеяться на повторение такого
подъема. Судьба прихлопнула меня, как муху. Ни к черту не годилась такая
судьба. Ветер был довольно сильный. От ветра качались фонари на плохо
натянутых проводах. Улица была похожа на плохо настроенную балалайку, и на
стенах спящих домов взлетали и опускались арки теней. Я шел сквозь строй
заночевавших у парка темных троллейбусов, освещаемых взлетающими фонарями.
Троллейбусы так и заснули на улице, закинув за голову тощие руки. Все спало
от усталости, кроме меня и фонарей. Даже ворота троллейбусного парка
заснули, и в них торчал въехавший наполовину троллейбус. Ворота так и
заснули с куском во рту.
огородов возвышался, словно огромный ящик, наш институт, мерцающий
стеклами. Да он и есть ящик. Почтовый ящик номер такой-то. Ящик, набитый
всякой премудростью до такой степени, что некоторые называют его
электронным мозгом. Электронный мозг так же похож на настоящий, как
сквозняк из подворотни на ветер в поле. Ветер в поле был ровный и сильный.
Туго натянутые провода на столбах гудели, и с них косо падали капли. Мокрые
галки сидели на изоляторах. Я смотрел на провода и мурлыкал песню Памфилия:


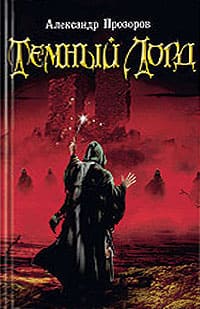
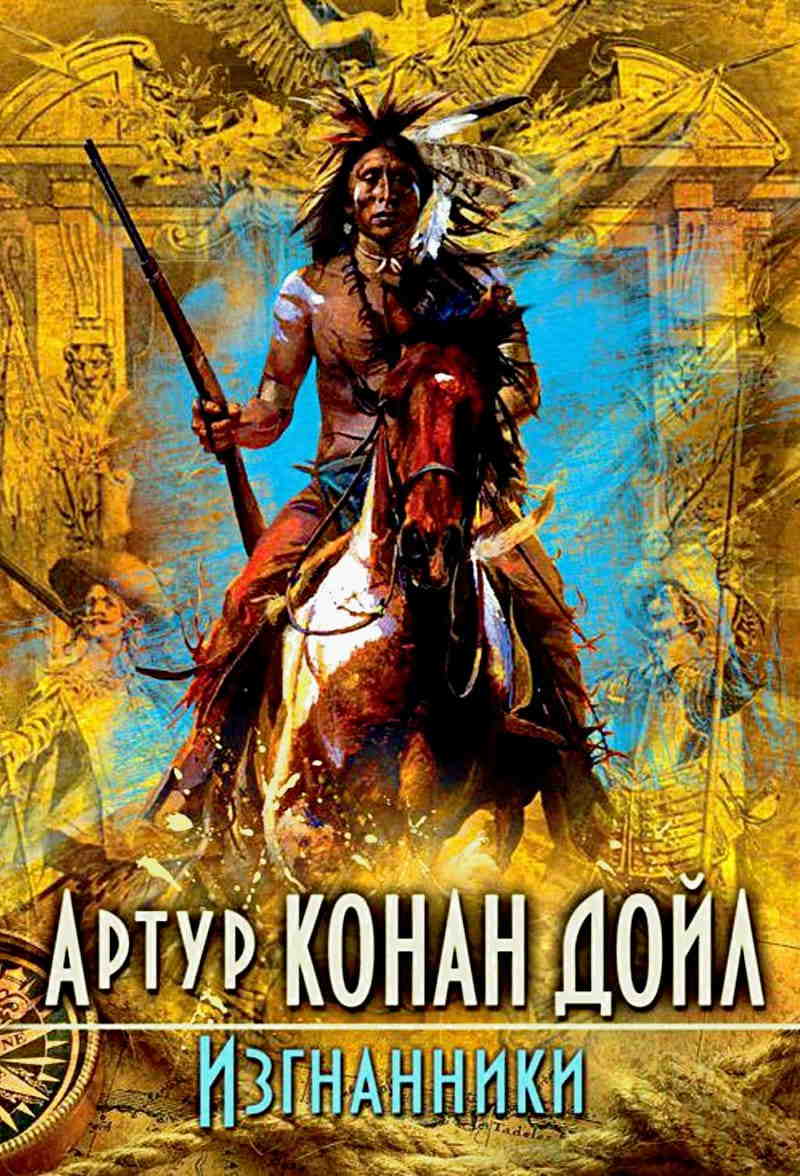


 Орлов Алекс
Орлов Алекс Мичурин Артем
Мичурин Артем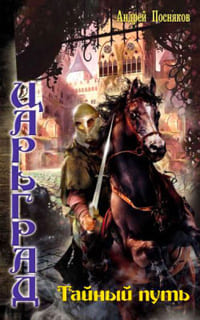 Посняков Андрей
Посняков Андрей Прозоров Александр
Прозоров Александр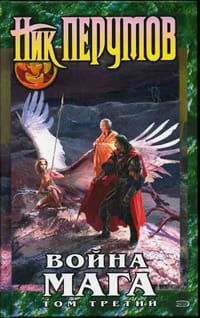 Перумов Ник
Перумов Ник Афанасьев Роман
Афанасьев Роман