подал Мишке большой острый нож.
ушел.
рта, тихо мыркнула, доверчиво поглядела на улыбающегося Мишку. Сильный
глухой удар в лоб, прямо в белую звездочку, оглушил ее. Она качнулась и
упала на колени, в глазах завертелся белый от снега проем ворот. Второй, еще
более сильный удар свалил ее на солому, и Рогуля выдавила из себя стон.
Мишка взял из паза нож и не спеша полоснул по мягкому Рогулиному горлу. Она
захрапела, задергалась и навсегда замерла на соломе.
на коромысле внутрь шерстью, Мишка и Иван Африканович раскладывали теплые
потроха. Иван Африканович держал в ладонях и разглядывал еще горячий Рогулин
плод.
плод в снег за ворота, а куровский кобель Серко, облизываясь, побежал к тому
месту.
остывала большая Рогулина голова. Светилась на лбу белоснежная звездочка, и
в круглых, все еще сизых глазах так и осталось недоумение. Глаза отражали
холодное, рябое от первого снега, уходящее к поскотине поле, баню, косую
изгородь и копошащегося в снегу куровского кобеля. Только все это было
маленьким, крохотным и перевернутым с ног на голову.
Африканович.
на него, заплакал еще один, потом третий...
ни на что не глядят...
Рогулины потроха, одна за другой капали соседские слезы. И Мишка промолчал,
ничего больше не сказал.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1. ВЕТРЕНО. ТАК ВЕТРЕНО...
по одорожной тропе да хлопала по бедру: "Охти мнешеньки, охти мнешеньки!
Благодать-то... погодушка-то..." Другая рука не свободна--в большущей
корзине два пирога с гостинцами для Катерининых ребятишек, да шаль на случай
дорожной стужи, да топор без топорища,--может, насадит Африканович.
было тихо и отрадно, ровная отава в лугах как расчесанная, застыли, не
шевельнутся на бровках сухие былиночки. Воздух остановился. Темные ели
берегли зеленую свою глубину: глядишь, как в омут. У сосен зелень сизая,
негустая, тоже не двинут ни одной иглой, а такие высокие. И сквозь них
голубенькое, почти белое небо без облаков. Тишина. Если остановиться, то за
сотню саженей слышно, как попискивает в ржаной стерне одинокая мышка. Там,
дальше, еще ясней каждый ольховый куст. Составленные в бабки бурые льняные
снопы словно братание устроили на широком отлогом поле. Обнялись, склонили
кудрявые головы друг к дружке да так и остались...
перевязать платок. Послушала, как свистит щекастая синица, поглядела на
кустики. Ягоды давно облетевшего шиповника горели в ольшанике красными
огоньками. Внизу за кустами почуялось какое-то бульканье,
подождала. Наконец послышался нерешительный детский голос:
ясно, что он Ивана Африкановича,
без матки..."
бани, кто-то рубил на грядке скрипучую, как бы резиновую капусту, и валек
очень звучно шлепал у портомоя. Стайка сейгодных телят стабунилась у
изгороди на придорожном пригорке, телятам лень щипать траву, одни лежали на
траве, другие дурачились вокруг Катерининой Катюшки.
сапожках, сделала на лужке "избу" из досок и четырех кирпичей, раскладывала
фарфоровые черепки и напевала. Обернулась, начала стыдить провинившегося
теленка:
Бессовестный, пустые глаза!
вины, глядел на Катюшку дымчато-фиолетовыми глазами, белобрысые его ресницы
моргали потешно и удивленно...
тебе!..--он ходит за мной?"
было.
Африкановича были не заперты. Степановна взялась за скобу. Евстолья сидела и
качала зыбку. Старухи, как увидели друг дружку, так обе сразу и заплакали.
Они говорили обе сразу и сквозь слезы, и Вовка, сидевший за столом с
картофелиной в руке, озадаченно глядел на них, тоже готовый вот-вот
зареветь. Он и заревел. Тогда Евстолья сразу перестала плакать, вытерла ему
нос и прикрикнула:
горе, горе одно, ведь где тонко, там и рвется. Сколько раз я ей говорила:
"Уходи, девка, со двора, вытянет он из тебя все жилушки, этот двор". Дак
нет, все за рублями, бедная, гонилась, а ведь и как, Степановна,
каждой-то божий день эдак, ни выходного, ни отпуску много годов подряд, а
робетешка-ти? Ведь их тоже -- надо родить, погодки, все погодки, ведь это
тоже на организм отраженье давало, а она как родит, так сразу и бежит на
работу, никогда-то не отдохнет ни денька, а когда заболела первой-то раз,
так и врачиха ей говорила, что не надо больше робят рожать; скажу, бывало,
остановитесь, и так много, дак она только захохочет, помню; ну вот, опять,
глядишь, родить надотко, один по-за одному...
на крылечке-то, не могу и слова выговорить, взяли в приют двойников-то, мясо
возил в район да Мишку с Васькой увез на разу, да Анатошку в училище сдал, а
Катюшку-то, Митька пишет, чтобы посылали, ежели кто в Мурманское-то поедет,
дак вот и жалко, матушка, до того жалко робят-то, что уж и ночами-то не
сплю, не сплю, Степановна, хоть и глаза зашивай.
на работу на хорошую устроил Митька-то, а ежели и Катюшку опять туда, дак на
еенное на старое-то место, говорит, и возьмут, только ведь мала-то еще,
больно мала-то, вот ежели Катюшку-то отправим, дак и останутся только Гришка
да Маруся да в зыбке два санапала. А и с этим, Степановна, разве мало
заботушки, руки-то у меня стали худые, худые, матушка. У тебя теперь каково
со здоровьем-то?
нахрястала, и управили вовремя; ежели прикупим пудов с десяток, дак и
прокормим корову-то.
всю ночку и прокосила, да и надсадилась, утром и не поела, опеть убежала, а
в обед вдруг Мишка Петров и бежит: "Евстолья, давай скорей за фершалом
посылай!" У меня, матушка, так сердце и обмерло. Привезли ее на телеге,
Катерину-то, да подрастрясли, видать, дорогой-то, повалили мы ее на кровать,
а она,
постели шарит, зовет робетешок, а уж сама и говорит еле-елешеньки и белая
вся как полотенышко...





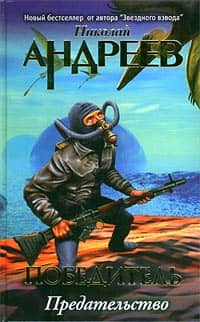
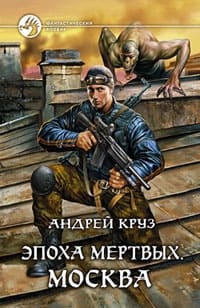 Круз Андрей
Круз Андрей Ильин Андрей
Ильин Андрей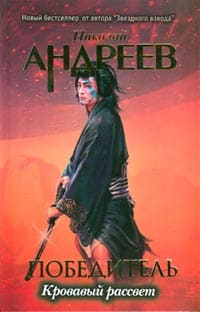 Андреев Николай
Андреев Николай Березин Федор
Березин Федор Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур Афанасьев Роман
Афанасьев Роман