вино эдак глушить. Нет, не ремесло...-- Мишка мотал головой.
бабы.
от этого закашлялся.--Ой, бабы! Ведь нас, как этих... как диверсантов...
шуганет, мы с лесенки-то ракетой. Как ветром нас сдуло! Ой, бабы! Лучше не
говорите...
домой ушел, стоим на морозе. Я говорю:
прокантуемся. Думал, на перине буду ночевать с Нюшкой, а все повернулось на
сто градусов". Пошли, баню нашли.
Африканович, раз дело со сватовством не вышло, дак хоть в тещиной бане
вымоемся.
руками.
смывать". А он упрямится, форс показывает: мочалки нет, того нет. "Меня,--
говорит,-- в Москве в трех домах знают. Я,--говорит,--чаю без сахару не
пивал, не буду, как дезертир, в чужой бане мыться. Да и жару,-- говорит,--
нет". А я, бабы, взял ковшик, плеснул на каменку. Оно верно, никакого от
каменки толку, все равно, думаю, не я буду, ежели в тещиной бане не вымоюсь!
Вот Ивану Африкановичу тоже деваться некуда, гляжу, раздевается.
полке--валетом. А худо ли? Свищи, душа, через нос. Я, бывало, в Доме
колхозника ночевал, дак там меня клопы до крови оглодали, а тут бесплатная
койка. Только слышу, Иван Африканович у меня не спит. "Чего?"--спрашиваю.
"А,--говорит,--ты эту... как ее... Верку-тозаозерскую
знаешь?Больно,--говорит,--добра девка-то". Я говорю: "Иди ты, Иван
Африканович, знаешь куда! Что я тебе, богадельня какая? Одну с бельмом
нашел, другую хромую. Эта Верка и под гору с батогом ходит". Он мне говорит:
"Ну и что? Подумаешь, хромая, зато хозяйство и братанов много по городам". Я
говорю: "Не надо мне этих братанов..."
ящики с товаром и два новых изуродованных самовара, завернутых в бумагу.
замолчал.
свидетели подписали акт о сломанных самоварах и о наличии ящиков, а Мишка
продолжал рассказывать:
Слышу--захрапело. Я утром пробудился, гляжу, нет Ивана Африкановича. Один на
полке лежу. Видать, будил он меня, будил да так и убежал по холодку,
отступился. Я спать-то горазд с похмелья. Сел я, бабы, закурить хотел.
Гляжу, штаны-то у меня не свои,-- видать, мылись да штаны перепутали.
"Ладно,--думаю,--хоть эти есть", выкурнул из предбанника, вроде никого не
видать, да по задам, по задворкам, думаю, хоть бы живым из деревни уйти.
Африкановича.
грамотка. Ну! Точно, накладная.
тридцать три восемьдесят штука, шоколад "Отелло", есть?
игрушки... "Репр... репродукция "Союз земли и воды", есть?
обертку и щелкнул от радости языком:--Мать честная! Бабы, вы только
поглядите, чего мы привезли-то! Не здря съездили. Два пятьдесят всего!
обнаженную женщину.
начали! Что дальше-то будет?
Рубенса из рамки, свернул его в трубочку.
заразвязывали узелки, зарасстегивали булавки. Мальчишка, посланный за Иваном
Африкановичем, вскоре прибежал и сказал, что Ивана Африкановича дома нет, а
куда девался, никто не знает, и что бабка Евстолья качает люльку, кропает
Гришкины штаны и ругает Ивана Африкановича путаником. И что будто бы Гришка,
дожидаясь штанов, сидит на печи и плачет.
4. ГОРЯЧАЯ ЛЮБОВЬ
нарождались новые клубы, крутились, блудили в своей толпе, путая небо и
землю. Видно, в последний раз бесилась зима. Ветер не свистел и не плакал, а
шумел ровным, до бесконечности широким шумом. Со всех сторон, и снизу и
сверху, хлопали и разрывались на плети плотные ветряные полотнища.
беда какая, ох и беда!" Он и сам не знал, вслух ли это говорилось или только
мысленно, потому что если бы вслух, то все равно голос был не слышен. Щупая
ольховой палкой дорогу, избочась и разрезая плечом налетающий рывками
воздух, он с трудом шел к лесу. Иногда ветер заливал дыхание. Тогда Иван
Африканович, как утопающий, крутил головой, искал удобного положения, чтобы
вдохнуть воздух, и чувствовал, как ослабевают коленки во время задержки
дыхания. Он знал, что в лесу дороги лучше и ветер тише. Шел очень медленно
шага влево, потом четыре вправо, если дороги левее не было.
Катерина, Катерина...--мысленно говорил Иван Африканович.--Да что же это...
Уехала, увезли. Как ты одна, без меня-то?.."
застал жену дома, он, не слушая тещу, кинулся вослед Катерине. "Бес с ним, с
мерином, и с товаром, разберутся! А какое ты дураково поле, Иван
Африканович! Напился вчера, ночевал в бане. А в это время Катерину увезли
родить, увезли чужие люди, а он, дураково поле, ночевал в бане. Некому бить,
некому хлестать". Так размышлял Иван Африканович и понемногу успокаивался.
Суетливое и бестолковое буйство в душе сменилось тревогой и жалостью к
Катерине. Он пробежал через Сосновку и даже не вспомнил про ночное
происшествие. Скорее, скорее. "Катерина. Увезли родить, девятый по счету,
все мал мала меньше. Баба шесть годов ломит на ферме. Можно сказать, всю
орду поит-кормит. Каждый месяц то сорок, то пятьдесят рублей, а он, Иван
Африканович, что? Да ничего, с гулькин нос, десять да пятнадцать рублей. Ну,
правда, рыбу ловит да за пушнину кой-чего перепадает. Так ведь это все
ненадежно..."
гулянок. Пришел с войны--живого места нет, нога хромала, так и плясал с
хромой ногой. Научился. Может, из-за этого и нога на поправку пошла, что
плясал, давал развитие... Катерина была толстая, мягкая. Она и сейчас еще
ничего, а ежели принарядится да стопочку выпьет... Только когда ей
наряжаться-то? Восемь ребятишек, на подходе девятый. Потрешь сопель на
кулак, пока вырастут. Теща, конечно, выручает, качает люльку, около печи
гоношится, без тещи бы тоже хана. Теща Евстолья тоже старуха ничего. Хоть и
собирается кажин день к Митьке в Северодвинск, а ничего. Пятый год говорит,
что уедет к Митьке...
просто будто заноза в пальце, сказывается тот случай, особенно когда
выпьешь. Правда, теща-то, пожалуй, и не виновата, виновата больше





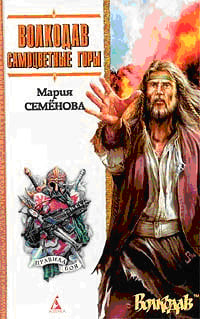
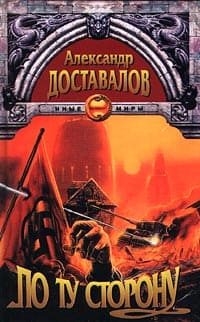 Доставалов Александр
Доставалов Александр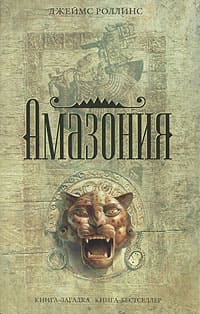 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Суворов Виктор
Суворов Виктор Василенко Иван
Василенко Иван Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Шилова Юлия
Шилова Юлия