этого не смогу сделать. Потому что я не понимаю! Не понимаю!
паузы. Видимо, не вполне она была проста, если он так долго размышлял,
прежде чем ответил:-Ведь мертвые живут!
хорошо знал епископа Гожелинского. Коль скоро сегодня его "образ растет",
как вы говорите, и к тому же так вот сразу, так быстро, то происходит это
не в силу его собственной святости, а по воле людей, которые это затеяли.
беседовали о покойном, вы иначе о нем отзывались.
что он был чистый, достойный уважения человек.
убеждению, одних хороших качеств епископа Гожелинского не хватило бы для
того, чтобы так отличать его, как это делают теперь в Риме. Значит, ясно,
что кому-то это выгодно! Кто-то в этом заинтересован!
слово. Вы сказали: затеяли. Вы повторяете инсинуации: кому-то, кто-то.
Такими выражениями вы еще больше себя взвинчиваете. Зачем? Слова ваши
неуместны и звучат фальшиво. Произошло событие, которое смешало
расчеты-ваши и вашего отца. Вас оно возмущает, вы подозреваете злой умысел
и корыстные интересы. Неужели вам ни разу не пришло в голову, что природа
этого события может оказаться неземной?
тактики и даже о простой вежливости, я повысил голос:
Смирение, смирение, сын мой. Вам нужны смирение и воля, самая искренняя,
добрая воля, чтобы понять непонятные вам вещи, которые вы должны, даже
обязаны, понять, если действительно, несмотря на неудачу, хотите морально
поддержать отца, правильно осветив истинные причины постигшей его неудачи.
возбуждения, я вскочил бы и убежал прочь от того места, где мне вполне
официально сообщили о поражении и где мне больше нечего делать, разве что
еще час или два переливать из пустого в порожнее. Но я не убежал. Я
остался из уважения к священнику де Восу. Меня не интересовало, что он мне
скажет. А в моем взволнованном состоянии я определенно не годился для роли
человека, оказывающего другому ту моральную поддержку, о которой упомянул
де Вое. Да и пререкаться с ним было бы так же нелепо, как пререкаться с
почтальоном из-за того, что доставленное им письмо содержит дурные вести.
И все-таки я не двинулся с места. Я не смог. Именно из уважения к отцу де
Восу. Я хорошо понимал, что ему тоже невесело. Не мог я забыть и того, что
вначале, когда это было возможно, он обещал мне помочь. И даже еще сегодня
принял меня, не откладывая неприятной для него встречи.
и молчал, прижимая сплетенные руки к столику, разделявшему нас. То ли он
размышлял, то ли молился, то ли собирался с духом-не знаю. Пожалуй, верно
последнее!
такие люди, как я, незначительные люди, которых не пускают дальше
приемной, возражали ему и к тому же крикливо, саркастически. Но вот его
маленькая, красиво вылепленная голова с коротко остриженными седыми
волосами шевельнулась. Сперва вправо, потом влево. Он несколько раз
повертел ею, глубоко втягивая в себя воздух.
следует внимать моим словам.
их отдернул.
ведь вы понимаете, что с мной происходит. Я знаю, что вы не такой, как все
прочие здесь. И еще раз прошу простить меня, поскольку я в обиде не на
вас, а только на курию.
Вы курите? Если да, пожалуйста, курите.
черный квадрат отполированной каменной шахматной доски. Мне казалось, что
в такой позе мне легче будет соблюсти приличия, вяло, не протестуя,
принять все разъяснения, без дальнейших ненужных возгласов выслушать до
конца его выводы, хотя бы и самые казуистические. Пусть говорит, пусть
выскажется, выболтается! У него есть на это право. Я от всего сердца
наделю его этим правом в обмен за проявленную ко мне доброжелательность.
Без возражений все проглочу. И даже более того: пообещаю передать отцу
все, что услышу. Но что касается лично меня, то никакая аргументация не
убедит меня, поскольку мне известна ее цель, она должна обосновать
неприемлемый для меня исход. Я докурил сигарету. Достал из пачки другую.
Все это время священник де Вое говорил. Разумеется, по-итальянски. Но, по
мере того как его рассуждения затягивались и усложнялись, в его
итальянской речи все заметнее пробивался северный, голландский акцент.
Иногда я даже с трудом понимал его. Правда, только изредка, некоторые
фразы. Зато мало-помалу мне становилась все более ясной его основная идея.
Он старательно, подробно развивал ее минут пятнадцать, а может, и
двадцать. Сводилась она, собственно говоря, к тому же, что высказывал
прелат Кулеша в воскресенье за чаем у пани Рогульской: церковь уже
много-много лет горячо ищет великую святую фигуру, фигурусимвол, символ
мученичества и борьбы с той силой, которая в наши дни воплощает основное
заблуждение эпохи и является главным врагом бога на земле.
которой она могла бы кристаллизоваться. Она лихорадочно пульсирует кровью
и огнем в сердцах верующих, в сердцах миллионов, миллионов людей, любящих
религию. Это не выдумка курии и не чей-либо-если пользоваться вашим
ужасным выражением - злой умысел. Это мистический зов неисчислимой массы
человеческих душ, зов, на который может откликнуться одно лишь небо.
можно знать, что это действительно отклик неба?
канонизации или причисления к лику святых тянется годами. Таким образом,
теперь можно говорить только о некоем первом порыве. О первом предчувствии.
отец ему подчинится?
уверовать в святость епископа, от которого он видел только ненависть?
которое в нем заключено? И разве вам не кажется, что в таком случае отец
ваш должен поступить так, как поступила бы церковь, то есть отнестись с
уважением к этой ненависти и склонить перед ней главу?
он и проглотит горькую пилюлю, отнесется к ненависти епископа с уважением,
как вы говорите, это не окажет никакого влияния на дело, ради которого я
приехал.
дальше будет расти, то все более плотная тень начнет окутывать вашего
отца. На годы.
всех моих учеников. Я искренне стремился оказать ему помощь. Меня лишили
такой возможности. Надо нам, однако, с этим примириться, и мне надо, и
вашему отцу.
если и глядел мне в глаза, то лишь мимолетно и словно по рассеянности.
Сегодня же это был иной взгляд-тоже быстрый, но явно умышленный. Я прочел
в его глазах, что у него на самом деле тяжело на душе.
мне, пожалуй, не стоит снова обращаться...
уже здесь не сделаешь. А кроме нас, у вас нет НИКОГО...


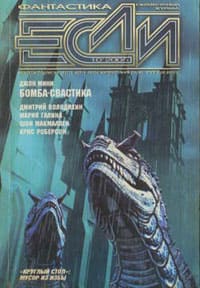


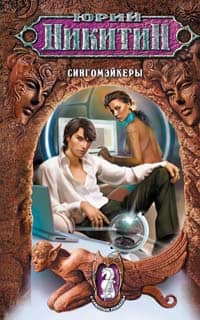
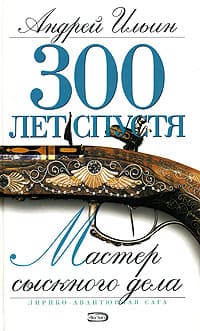 Ильин Андрей
Ильин Андрей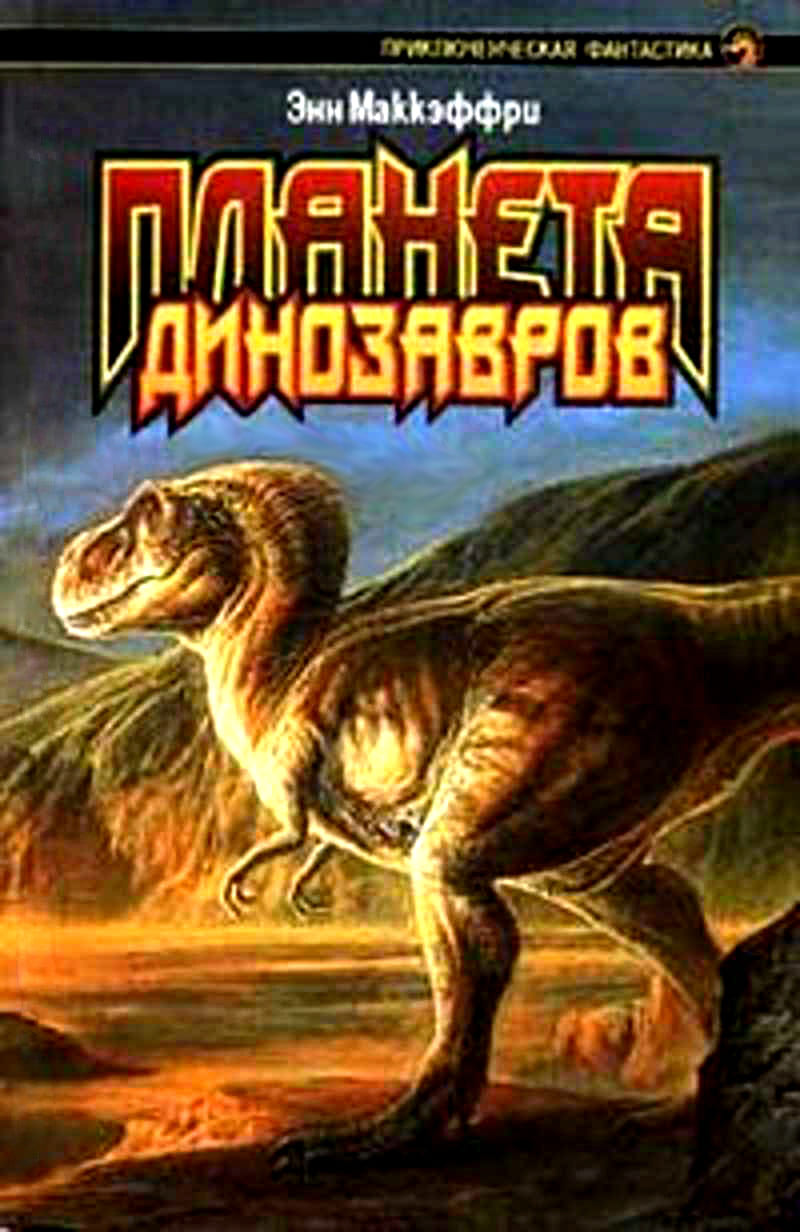 Маккэфри Энн
Маккэфри Энн Василенко Иван
Василенко Иван Пехов Алексей
Пехов Алексей Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк