поверить, что не он навредил мне в курии. Но здесь, в пансионате, по всей
вероятности, именно он поносил моего отца. Несомненно, наша история широко
обсуждается во всей эмигрантской общине. И следовательно, во всех комнатах
постоянных обитателей пансионата "Ванда". Все здесь подчиняются мнениям
прелата. Должно быть, он наговорил с три короба, поэтому-то они и так
холодны со мной, и так сторонятся меня. К счастью, они знают от
Малинского, что я уезжаю. Ну и терпят.
колючей. Ничего этого не произошло. Без крайней необходимости пани
Козицкая не заговаривает со мной, из любезности не улыбается, но, увидев
меня, не удирает из комнаты. Не вскакивает со стула, притворяясь, будто
что-то вспомнила. Малинский тут ни при чем. Так я полагаю. Если бы она
считалась с его мнением, то с самого начала вела бы себя иначе. Я думаю,
она только из духа противоречия проявляет свое отношение ко мне иначе, чем
ее родственники. В сущности, она осуждает меня так же, как и они, считая,
будто я приехал в Рим по неправедному делу. Стадный инстинкт толкает ее в
ту же сторону, что и всех остальных. И если она повернулась ко мне не
спиной, а профилем-велика ли для меня разница!
перемена. Не по моей вине. Как раз вчера. Расставшись с Малинским после
визита к священнику Дуччи, я вошел в первое попавшееся бюро путешествий.
Небольшое помещение полно народу; американцы, англичане, испанцы и, что
хуже, руководители какой-то большой немецкой туристской группы-в течение
получаса они занимают всех служащих множеством своих проектов и дел.
Наконец от окошечка, к которому я устремился, меня отделяет только одна
женщина. Узнаю Козицкую. К сожалению, слишком поздно, чтобы отступить. Она
оборачивается и густо краснеет. Хотя она держит себя в пансионате
любезнее, чем ее тетка и дядя, я не знаю, как вести себя в данных
обстоятельствах, чтобы выдержать светский тон. По правде говоря, мы друг с
другом не разговариваем. Наконец она получила все справки. Я вздыхаю с
облегчением. Сейчас Козицкая уйдет. Нет, она оборачивается. Тогда я смотрю
на часы и, желая что-нибудь сказать, сообщаю:
на Вену и Варшаву, а я уголком глаза наблюдаю за Козицкой. Она меня ждет.
Сперва разглядывает огромные плакаты, призывающие вас посетить -разные
страны или соблазнительные для туризма местности. Морщит свой высокий лоб,
поджимает большой чувственный рот. Она красива. Ее маленький вздернутый
носик не гармонирует с ее вечно мрачным, нелюбезным настроением. Вдруг
наши глаза встречаются. Я подаю ей знак, что сейчас освобожусь. Она кивает
головой, подтверждая, что поняла меня. Но тут же исчезает из помещения
бюро. Теперь я ее вижу через огромное окно витрины. Козицкая не сводит
глаз с макета трансатлантического парохода, красующегося за стеклом.
Получив от служащего нужные сведения, я выхожу. Мы быстрым шагом идем к
остановке. Смотрим, не подъезжает ли троллейбус. Да, подъезжает.
Вскакиваем. За все время мы не произнесли ни слова. Но в троллейбусе нас
так стиснули, что мы смотрим прямо в лицо друг другу. Дальше хранить
молчание нам неудобно.
что троллейбус делает поворот и дуга его со скрежетом трется о провода. Я
вижу, как шевелятся губы Козицкой. Начала фразы не слышу. А конец звучит
так:
Мы снова находим друг друга только возле собора Святого креста в
Иерусалиме, уже неподалеку от дома. В троллейбусе теперь пусто, и мы
занимаем свободные места.
моей руки.
куда я уезжаю. Если вы из деликатности отрицаете, будто слышали, спасибо,
и прошу вас продолжать в том же духе.
ответил, что, разумеется, не буду, и добавил, что мне нетрудно сдержать
обещание, поскольку мы все равно никогда друг с другом не разговариваем.
Тогда она уточнила свою мысль:
таком духе: "Жарко", "Мы все-таки поспели вовремя", "В обеденные часы
ужасно работает транспорт". После этого случая Козицкая тоже
изменилась-подражает пани Рогульской и пану Шумовскому. Из самолюбия.
Злится из-за того, что ей пришлось меня о чем-то просить. Боже мой! Здесь,
в "Ванде", меня сторонятся. Меньше ли, больше-мне-то совершенно
безразлично.
когда я приехал к нему в Торунь. Я взял у него тогда пакет для синьора
Кампилли и мемориал, а на третьем конверте стояла фамилия кардинала Чельсо
Травиа-декана трибунала Священной Роты. После долгих колебаний отец вручил
мне это письмо. Он не сомневался, что кардинал помнит его. Травиа в свое
время руководил "Аполлинаре". Приезжая в Рим, отец всегда являлся к нему с
визитом. Монсиньор Травиа тогда еще не был кардиналом. Теперь именно его
кардинальское звание смущало отца. Смущало до такой степени, что позднее,
когда я вернулся из Торуни в Краков, отец мне телеграфировал, что "письмо
к Травиа недействительно", а вскоре письменно объяснил причины. В двух
словах: кардинал Травиа слишком крупная фигура, и в Риме не принято
затруднять таких людей частными делами; к тому же само по себе рискованно
обходить тех, кто занимает более низкие должности.
советоваться с Кампилли; поэтому в ответном письме я спросил, не стоило ли
на месте узнать мнение Кампилли. Отец ответил, что вопрос этот он еще раз
продумал и твердо стоит на своем.
друг друга. У отца была чувствительная струнка: ему хотелось всем
нравиться. Даже убедившись в чьем-то недружелюбии, он неохотно в этом себе
признавался. Если моя догадка верна, то письмо не имеет никакой ценности.
Если же неверна-я имею в виду, что кардиналам действительно ни при каких
обстоятельствах не следует надоедать, - то письмо может принести вред.
Таким образом, я совершенно забыл о нем.
материалами. Поселившись в "Ванде", я брал письмо с собой всякий раз,
когда уходил в город. Я давно бы уже его уничтожил, оно сохранилось только
потому, что я засунул его в конверт с различными черновиками, служебными
бланками отца с его подписью и первым экземпляром мемориала, касающегося
спора с епископом Гожелинским. Вначале, готовясь к визитам, я заглядывал в
мемориал. Потом перестал, потому что знал почти наизусть все десять
страниц машинописного текста. Но, конечно, мемориал еще мог пригодиться.
По крайней мере до вчерашнего дня!
содержало просьбу принять меня и выслушать. Просьбу свою отец изложил
витиевато и раболепно. Ни единым словом не упоминал о деле. Глагол
"выслушать", дважды повторяющийся в письме, однако, не оставлял сомнений в
том, что отец имеет в виду нечто весьма для него существенное. После
разговора со священником Миросом я часа два просидел в баре на пьяцца
Барберини, размышляя обо всем, с чем столкнулся в Риме, но не вспомнил о
письме. И всю остальную часть дня тоже.
карманов на столик у окна, взял в руки бумаги, которые постоянно ношу при
себе, чтобы не вводить в искушение обитателей "Ванды", - и вот тут стал
внимательно разглядывать письмо к кардиналу, проверяя, в каком оно
состоянии, не слишком ли истрепалось.
Запрет отца уже не имел значения, раз отпали все предпосылки, с которыми
стоило считаться: будто в Роте обидятся, будто я задену Кампилли, будто
так поступать не принято! Ну и что? Хуже того, что случилось, ничего быть
не может. Другой вопрос: захочет ли кардинал меня принять? Согласится ли
на аудиенцию, коль скоро он с самого начала передал дело моего отца в руки
монсиньора Риго? Я знал, что кардинал очень стар, ему далеко за
восемьдесят, такими стариками чаще всего управляют домочадцы или
подчиненные, а для них мой отец, наверное, некое отвлеченное лицо, не
пользующееся в курии доброй славой.





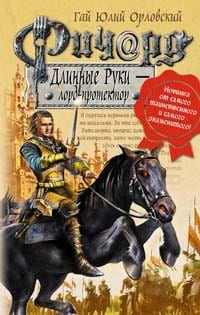
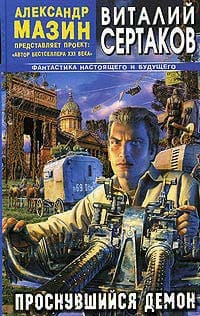 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Шилова Юлия
Шилова Юлия Перумов Ник
Перумов Ник Земляной Андрей
Земляной Андрей Шилова Юлия
Шилова Юлия Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс