в том направлении, а по серебристым бликам^, игравшим вдоль всей линии
горизонта. Под прямым к ней углом-Рим; он ближе от нас, чем море, сказал
священник Пиоланти, примерно километрах в двадцати. С этого расстояния Рим
похож на гигантскую серо-розово-лиловую цветочную грядку. Иногда яркие
блики появлялись и в этой стороне, то в одном месте, то в другом;
вероятно, это сверкали купола соборов. Но лишь изредка. В мыслях я почти
не возвращался к дням, проведенным в Риме. Об отце я тоже не думал. Я
понимал, что обязан ему написать, но все откладывал. Не потому, что не
стоило спешить с дурными вестями. Просто я еще не чувствовал себя в силах
написать такое письмо как следует, без горечи, дельно.
и в дурном настроении. И все из-за того, что сон, как непрошеный
утешитель, извлек на поверхность то, о чем я почти не думал уже около двух
суток. Сперва мне приснился вращающийся пюпитр, о котором я читал у
кардинала Эрле.
смастерил бы столяр, всерьез принявший данные, приведенные в книге Эрле.
Каждая из сторон верхней^ части в отдельности-так называемые rodetae-была
величиной с крьыо ветряной мельницы. На одном крьше вращался я, на
другомотец. Мы вращались так без конца в тишине и в пустоте, не привлекая
к себе ничьего внимания. Потом, по странной логике сна, мы пробирались
через подземелье, заполненное статуями с живыми, бегающими глазами. Я шел
все вперед и вперед и вдруг заметил, что мы вернулись к тем самым статуям,
возле которых уже один раз были. Тогда я понял, что на самом деле мы не
двигаемся, а только вертимся на одном месте. С этим чувством я и
проснулся-удрученный, с тяжестью на сердце, долго еще докучавшей мне. Но в
конце концов она прошла бесследно.
расписании дня. Пиоланти возвращается только около трех, и за обедом я
сижу один. Я стараюсь прийти за минуту до молитвы и стою в неподвижности
за своим стулом, опустив глаза.
самый конец очереди. Все тут относятся друг к другу весьма
предупредительно. Так, например, священник, сидящий напротив меня,
заметил, что мне мешает солнце, и опустил шторку на окне.
улыбаясь. Такая улыбка здесь очень принята. Мы улыбаемся при встрече за
пределами территории монастыря или у входа в церковь, когда каждый из нас
уступает дорогу другому.
никогда беседа не бывает общей. Разговор ведут только с соседом или с
соседями. Всегда с одними и теми же. Вот так, как я с Пиоланти. В общем,
настроение тяжелое. Как в доме, где за стеной кто-то опасно болен или с
кого-то снимают допрос. К счастью, мы не засиживаемся за столом. И кроме
того, тягостное настроение, по крайней мере у меня, бывает только тогда,
когда я сижу за столом один, то есть во время обеда. За завтраком и за
ужином рядом со мной находится Пиоланти.
моей. Около четырех я просыпаюсь и захожу к нему выпить кофе. Затем
ненадолго мы идем в церковь. Священники, которым запрещено служить обедню,
могут служить вечерню. Соблюдая вежливость по отношению к ним, мы
присутствуем на богослужении, которое они отправляют. А потом неизменная
прогулка, вплоть до самого ужина, на Монте-Агуццо. Здесь красиво в любое
время. Красивее всего к концу дня. Море, видимое с запада, блестит тогда
сильнее и переливается красноватыми тонами. Далекие контуры Рима
приобретают фиолетовый оттенок. Испарения над ним сгущаются. А
выше-безмерно длинная гряда фантастических медно-розовых облаков с
мягкими, расплывчатыми очертаниями.
угнетает меня и что угнетает его. Если уж говорим, то скорее о деревне,
где у него приход, чем о причинах, по которым он временно ее покинул и
засел в Ладзаретто, чтобы находиться поближе к Риму. Из сказанного им я
делаю только один вывод: как я и догадывался, все действительно произошло
из-за книги. Он издал ее год тому назад с одобрения своего епископа, того
самого, который часто говорил, что и библиотеки являются домами божьими.
Однако сочинение, которым священник Пиоланти обогатил эти дома, пришлось
не по душе разным важным церковным ведомствам в Риме. Пиоланти туда
вызвали.
положение Пиоланти. Считалось, что он ввел епископа в заблуждение.
Пиоланти поехал в Рим, пытался защищаться, просвещал себя чтением разных
трудов, а кроме того, искал помощи у людей, которые знали его с тех
времен, когда он кончил семинарию, и позднее. Но пока безрезультатно.
Департамент, который занимался делом Пиоланти, все реже вызывал его из
Ладзаретто в Рим. Однако бедняга не терял терпения.
деревушке Сан-Систо, лежавшей в горах под Орсино.
чуть пониже, там, где когда-то были огороды прокаженных. В давние времена
весь склон был изрезан такими огородами, большие террасы громоздились
здесь одна над другой.
следы еще сохранились. Осторожно, чтобы не уколоться и не запачкать
платье, мы раздвигали ветки одичавшей малины или крыжовника и вытягивались
на уцелевшей террасе, как на широкой скамье.
чище. И поэтому видишь все кругом, как сквозь сильные оптические стекла.
Уверяю вас: кристалл!
лет, и объяснял мне, что если исчислять время священнической мерой, по
которой духовному лицу случается всю жизнь провести на одной должности, то
пять лет-это немного.
важный период в его жизни. К этой мысли он возвращался всякий раз.
Высказывая ее, он понижал голос, опускал рыжеватую голову и довольно долго
рассматривал носки своих истоптанных башмаков, покрытых овальными грубыми
заплатами. Из этого я заключал, что этот важный период был, кроме того, и
трудным. А когда он вновь поднимал голову, тусклое выражение его глубоко
посаженных глаз убеждало меня, что это бьы равно и период горьких
испытаний. Поэтому так и мыкался Пиоланти. В первый раз, когда мы
заговорили о его приходе и он так загрустил, я спросил, движимый
состраданием.
ваш приход очень бедный?
свои мысли с непривычным для него многословием.
поскольку мы изо дня в день возвращались к этой теме, я в конце концов
разобрался.
мной настороженно. Считают, что я вмешиваюсь не в свои дела. А как же не
вмешиваться, если мне известно, что вокруг свершается великое множество
преступлений, а в исповедальной я о них ничего не слышу. Сперва я думал,
что люди стесняются меня и предпочитают исповедоваться у других. Да нет. В
другие приходы они тем более не пошли бы. Спустя некоторое время я понял
почему. Это было бы равносильно полупризнанию, означало бы, что у них есть
тайны, в которых они не хотят исповедаться своему приходскому священнику.
утаивая свои грехи, они избирают наихудшее зло. Я сказал: "Если вы
собираетесь и впредь так поступать, то лучше не исповедуйтесь вовсе". Но
они по-прежнему приходили. Хотя с этого времени еще меньше доверяли мне,
потому что приняли мои слова за ловушку, расценили их как коварный прием,
с помощью которого я пытаюсь установить, кто из людей втайне от меня
пребывает не в ладах с законом. А зачем? Разве я не исповедник, а судебный
следователь, что они так остерегаются меня, боятся открыть передо мною
душу?
И снова печально опускал голову.
в Сан-Систо. Но то же самое происходит и в соседних приходах, только
большинство священников к этому привыкли и самый факт умолчания объясняют
темнотой населения. А я не думаю, что это результат темноты. Я думаю, что
вначале, в ту пору, когда в этих краях распространилось христианство,
люди, хоть, наверное, еще более темные, чем в наши дни, были откровенны со
своими духовными пастырями. Я думаю, что только позднее они мало-помалу
стали другими. По мере того как и мы, священники, становились другими. То
есть такими, что откровенничать с нами могло быть опасно.
уже не возвращались на вершину холма или на наше излюбленное место. Для
этого было слишком темно. А кроме того, у самого подножия горы, между



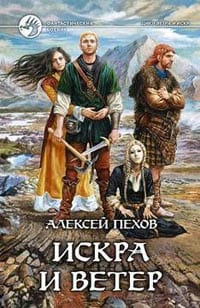


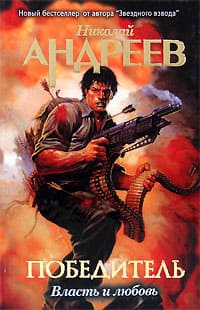 Андреев Николай
Андреев Николай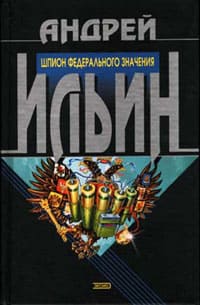 Ильин Андрей
Ильин Андрей Контровский Владимир
Контровский Владимир Шилова Юлия
Шилова Юлия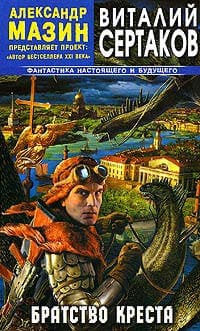 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Посняков Андрей
Посняков Андрей