[Бродский:]
[Волков:]
хотелось ее получить.
[Бродский:]
меньше, чем Пастернак. Это я точно знаю.
[Волков:]
реакция? Считается, что здесь Фроста знают все. Его постоянно цитируют,
как в свое время в советских школах и вузах -- Маяковского.
[Бродский:]
поэт. И оттого стихи Фроста американская молодежь воспринимает с
колоссальным предубеждением. Им всегда говорили, что Фрост -- поэт
сельской жизни, пасторалист такой...
[Волков:]
[Бродский:]
действительно, Фрост -- американец. Только совсем в ином роде, чем они
предполагали. Что Фрост -- не хрестоматийный поэт, а явление куда более
глубокое и пугающее. Что это и есть подлинно трагическое аутентичное
американское сознание, которое маскирует себя уравновешенной речью,
обстоятельностью, прячется за обыденностью описываемых явлений. И когда
студенты это понимают, то приходят в состояние полного неистовства.
___
[Волков:]
шестидесятых годов. В вашу защиту выступили многие крупные фигуры
русской культуры. Конечно, Ахматова, к кругу которой вы в тот период
принадлежали. Но также Чуковский, Паустовский, Маршак. Некоторые из
властителей дум того периода отказались быть вовлеченными в это дело.
Рассказывают, что Солженицын, когда к нему обратились за поддержкой,
ответил, что не будет вмешиваться, поскольку ни одному русскому
писателю преследования еще не повредили. Меня особо интересует позиция
Шостаковича в этом деле, поскольку я его знал, общался с ним -- правда,
более тесно позднее, когда мы вместе работали над его мемуарами.
Шостакович подписывал заявления или письма к властям в вашу защиту?
[Бродский:]
чего он не подписывал. Но, безусловно, он выступал в мою защиту
довольно активным образом. Не знаю точно, сколько раз и в какой форме.
Но это было именно так.
[Волков:]
Шостаковичу в связи с вашим делом. Его к Шостаковичу привела Ахматова.
Первый же вопрос Шостаковича был: "Он что, с иностранцами встречался?"
И когда этот факт был подтвержден Найманом, то Шостакович сильно
приуныл. То есть для него в тот период несанкционированное властями
общение с иностранцами было серьезным нарушением "правил игры". Позднее
взгляды его изменились. Но в тот момент Шостакович в подобной ситуации
исходил из "презумпции виновности".
[Бродский:]
Шостакович исходил или не исходил. Это все абсолютный вздор. Беда
положения нравов в Отечестве заключается именно в том, что мы начинаем
бесконечно анализировать все эти нюансы добродетели или, наоборот,
подлости. Все должно быть "или -- или". Или -- "да", или -- "нет". Я
понимаю, что нужно учитывать обстоятельства. И так далее, и тому
подобное. Но все это абсолютная ерунда, потому что когда начинаешь
учитывать обстоятельства, тогда уже вообще поздно говорить о
добродетели. И самое время говорить о подлости.
[Волков:]
[Бродский:]
должен исходить из более или менее вневременных категорий. А когда
начинаешь редактировать -- в соответствии с тем, что сегодня дозволено
или недозволено,-- свою этику, свою мораль, то это уже катастрофа.
[Волков:]
которой одно с неумолимой последовательностью вытекает из другого. А
человек редко развивается по таким законам. Его становление гораздо
более хаотично.
[Бродский:]
логической последовательности?
[Волков:]
была настолько испещрена черными дырами, что теряла всякую логическую,
не говоря уж о фактической, последовательность. Для меня одним из
доказательств этого был такой простой факт: в советских библиотеках
простому читателю уже в конце шестидесятых годов не выдавали советские
же газеты, изданные до 1964 года, то есть до падения Хрущева. То есть
нельзя было получить газету "Правда" пятилетней давности! Настолько за
этот период изменилась официальная позиция!
[Бродский:]
менялось-то это все именно благодаря последовательности властей. Как
результат их последовательности.
[Волков:]
Помню, я заказал в госфотоархиве энное количество фотографий
Шостаковича разных лет. Заплатил за них заранее, как полагается. А
выдавала мне их специальная такая дама, у которой только что погоны не
просвечивали сквозь костюм. И она, естественно, каждый снимок, перед
тем как мне его вручить, проверяла. Так вот, те фотографии, на которых
Шостакович был запечатлен с Хрущевым, она мне не выдавала, а
зафигачивала в мусорную корзину -- раз! два! три! И даже не утруждала
себя объяснениями. Я и так, без лишних объяснений, обязан был понять,
что рядом с Хрущевым Шостаковичу стоять не положено. Потому что в то
время Хрущев был персоной нон грата.
[Бродский:]
Шостакович со Сталиным -- еще нельзя, Шостакович с Лениным -- вообще
нельзя. И я думаю, что это даже к лучшему. Во всяком случае -- для
Шостаковича.
[Волков:]
[Бродский:]
грубо говоря.
[Волков:]
творчество Шостаковича привлекло внимание властей чуть ли не с самого
начала. А времена тогда были совсем не вегетарианские. И жизнь свою
можно было потерять запросто. А личное знакомство с вождями могло
послужить, по крайней мере на время, какой-то охранной грамотой. И
потом, Шостакович ведь не просто свою жизнь спасал. Он также спасал
свое дарование, свое творчество. Хотя и я до сих пор не могу понять
одного его поступка -- когда он в 1973 году подписал одно из
антисахаровских писем, публиковавшихся тогда в "Правде". Мне
рассказывали, что жена его потом звонила в руководящие инстанции и



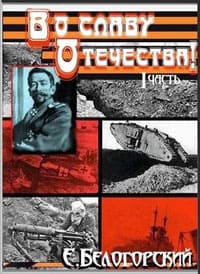


 Посняков Андрей
Посняков Андрей Шилова Юлия
Шилова Юлия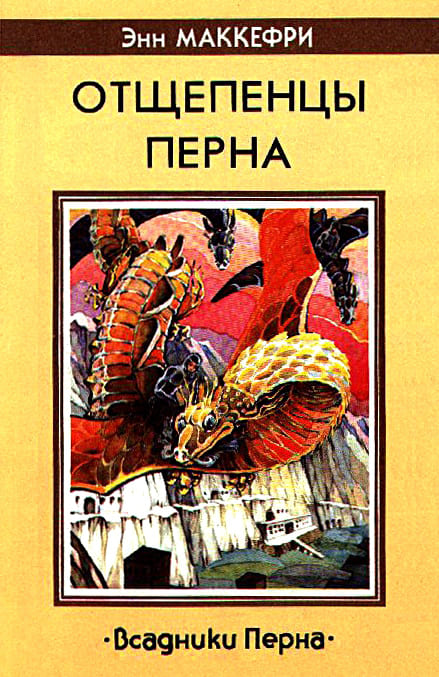 Маккефри Энн
Маккефри Энн Посняков Андрей
Посняков Андрей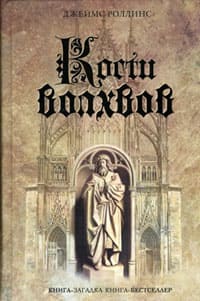 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Афанасьев Роман
Афанасьев Роман