читатель, как это ни грустно, всегда сильно отстает. Чего он там про
себя ни думает, как он того или иного поэта ни понимает, он все-таки,
как это ни горько, всего только читатель. Я не хочу сказать, что автор
-- существо высшего порядка. Но все-таки психологические процессы...
[Волков:]
[Бродский:]
словесностью по одной простой причине -- она сообщает тебе чрезвычайное
ускорение. Когда сочиняешь стишок, в голову приходят такие вещи,
которые тебе в принципе приходить не должны были. Вот почему и надо
заниматься литературой. Почему в идеале все должны заниматься
литературой. Это необходимость видовая, биологическая. Долг индивидуума
перед самим собой, перед своей ДНК... Во всяком случае, следует
говорить не о долге поэта по отношению к обществу, а о долге общества
по отношению к поэту или писателю. То есть обществу следовало бы просто
принять то, что говорит поэт, и стараться ему подражать; не то что
следовать за ним, а подражать ему. Например, не повторять уже однажды
сказанного...
некие стандарты, а общество этим стандартам -- речевым, по крайней мере
-- подчинялось. Но сегодня, я уж не знаю каким образом, выяснилось, что
это литература должна подчиняться стандартам общества.
[Волков:]
игры, предложенные литературой, или, шире, культурой в целом.
[Бродский:]
[Волков:]
сейчас как никогда общество подражает тем образам, которые
предлагаются, иногда даже навязываются ему искусством.
[Бродский:]
[Волков:]
писал свои романы для еженедельных газеток с картинками; сегодня он,
вероятно, работал бы на телевидении. И элитарная, и массовая культура
-- это части единого процесса.
[Бродский:]
народа.
[Волков:]
[Бродский:]
Андреевну Ахматову. То есть в нем было нечто величественное, некий
патрицианский элемент. Я думаю, Ахматова и Оден были примерно одного
роста; может быть, Оден пониже.
[Волков:]
[Бродский:]
Чтобы комплекса не было.
[Волков:]
[Бродский:]
[Волков:]
времени?
[Бродский:]
мочь-то она могла, потому что английским владела замечательно, Шекспира
читала в подлиннике. (Надо сказать, по части языков у Ахматовой дело
обстояло в высшей степени благополучно. Данте я услышал впервые -- в ее
чтении, по-итальянски. О французском же и говорить не приходится.) Но
помимо более чем полувековой оторванности от мировой культуры, помимо
отсутствия книг, дело еще и в том, что в России, по традиции,
представления об английской литературе были чрезвычайно
приблизительные. Об этом и сама Анна Андреевна говорила: что русские об
английской литературе судят по тем авторам, которые для литературы этой
решительно никакой роли не играют. И Ахматова приводила примеры -- один
не очень удачный, а другой -- удачный чрезвычайно. Неудачный пример --
Байрон. Удачный -- какой-нибудь там Джеймс Олдридж, который вообще все
писал, сидючи в Москве или на Черном море. Если говорить серьезно, то
представление об английской литературе в России действительно
превратное (я имею в виду не только XX век, но и прошлые века). За
исключением двух-трех фигур -- скажем, того же Диккенса, совершенно
замечательного писателя. Но ведь мы говорим как раз о поэзии; о ней
вообще ничего неизвестно. Причины тому самые разнообразные, но прежде
всего, я думаю, географические (которые я больше всего на свете и
уважаю). Вспомните: у русских для всех народов, населяющих Европу,
найдены презрительные клички, да? Немцы -- это "фрицы", итальянцы --
"макаронники", французы -- "жоржики", чехи -- "пепики". И так далее.
Только с англосаксами как-то ничего не получается. Видно, пролив
существует недаром. Мы не очень терлись друг о друга (что и
замечательно). Другая причина -- известная несовместимость того, что
написано по-английски (особенно в стихах) с русской поэзией или с
традиционным русским представлением об эстетическом. Англичан, прежде
всего, трудно переводить. Но когда они уже переведены, то непонятно,
что же перед нами возникает. Все мы в России знаем, что был великий
человек Шекспир, но воспринимаем его как бы в некоторой перекидке,
приноравливая, скорее всего, к Пушкину. Или возьмем переводы из
Шекспира Пастернака: они, конечно, замечательны, но с Шекспиром имеют
чрезвычайно мало общего. Очевидно, тональность английского стиха
русской поэзии в сильной степени чужда. Единственный период совпадения
вкусов -- и тона -- имел место, я думаю, в начале XIX века, в период
романтизма. В тот момент вся мировая поэзия была примерно на одно лицо.
Да и то Байрона в России не очень поняли. Русский Байрон -- это
сексуально озабоченный романтик, в то время как Байрон чрезвычайно
остроумен, просто смешон. И этим действительно напоминает Александра
Сергеевича Пушкина.
[Волков:]
[Бродский:]
какой-то степени заинтересовался литературой. Тогда Оден был для меня
всего лишь одним именем среди многих. Первым всерьез об Одене заговорил
со мной Андрей Сергеев -- мой приятель, переводчик с английского. Фрост
(среди прочих поэтов) русскому читателю представлен Сергеевым: если для
меня существовал какой-нибудь там высший или страшный суд в вопросах
поэзии, то это было мнение Сергеева. Но по тем временам я Сергеева еще
таким образом не воспринимал. Мы с ним только-только познакомились.
После того как я освободился из ссылки, я ему принес какие-то свои
стишки. Он мне и говорит: "Очень похоже на Одена". Сказано это было,
по-моему, в связи со стихотворением "Два часа в резервуаре". Мне в ту
пору стишки эти чрезвычайно нравились; даже и сейчас я их не в
состоянии оценивать объективно. Вот почему я так заинтересовался
Оденом. Тем более что я знал, что Сергеев сделал русского Фроста.
[Волков:]
Советский Союз в 1962 году?
[Бродский:]
поэтому я его мнение чрезвычайно ценю. Я, пожалуй, сказал бы, что
мнение Сергеева о моих стишках мне всегда было важнее всего на свете.
Для меня Сергеев не только переводчик. Он не столько переводит, сколько
воссоздает для читателя англоязычную литературу средствами нашей



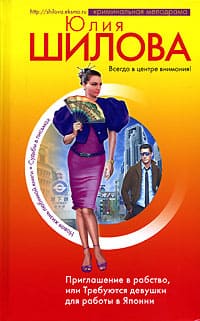

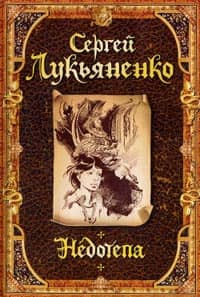
 Эриксон Стивен
Эриксон Стивен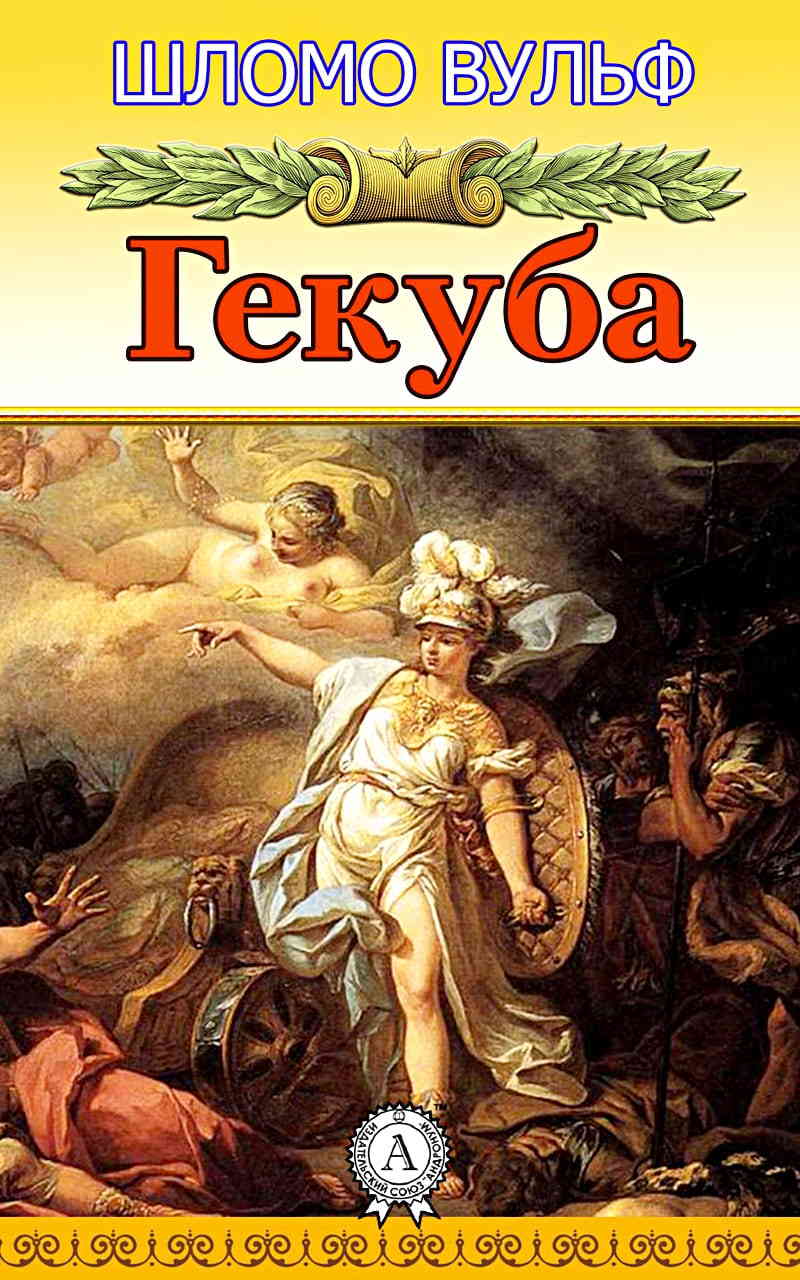 Шломо Вульф
Шломо Вульф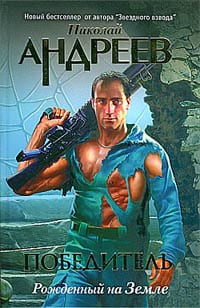 Андреев Николай
Андреев Николай Каменистый Артем
Каменистый Артем Никитин Юрий
Никитин Юрий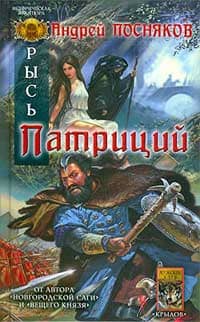 Посняков Андрей
Посняков Андрей