потом -- и на фотографии. Если на ранних снимках завиток на виске
напоминал о рожках сатира, то на поздних -- о венке. Да и залысины так
обнажают лоб, что невольно вспоминается взятая им в эпиграфы
ахматовская строка "седой венец достался мне не даром". К концу жизни
от лица Бродского остается, кажется, один удобный для чеканки профиль,
с длинным, как у Данте, носом.
Возможно, потому, что эти вертикальные вещи со спиной и ногами больше
другой мебели похожи на нас. А может, потому, что стулья первыми
встречают и последними провожают поэта, когда он выступает перед
публикой. В полном зале они скромны и незаметны, зато в пустом --
стулья тревожно глядят бельмами в сторону микрофона. Общаясь с
аудиторией, Бродский будто бы помнил и об их безмолвном присутствии.
одностороннего диалога, который Бродский вел с залом. Он в него
вслушивался с гораздо большим вниманием, чем выдавал взгляд поверх
голов. Читая, Бродский сочувствовал аудитории, но не помогал ей. Скорее
наоборот. Нащупав взаимопонимание ("вам нравится энергичное с коротким
размером"), немедленно переходил к длинному и сложному, вроде "Мухи"
или "Моллюска". В этом не было садизма, он испытывал не терпение
слушателей, а себя. "Ухитрившись выбрать нечто привлекающее других, --
писал он, -- ты выдаешь тем самым вульгарность выбора". Сопротивление
среды, тем большее, что ее составляли восторженные поклонники,
подтверждало нехоженость его путей.
сгибаться. Оставшееся время, надо понимать, уходит на то, чтобы
воспользоваться этой наукой.
самой густой толпе между ним и остальными сохраняется дистанция.
Отчуждение облекало его прозрачным скафандром. Не смачиваемый людским
потоком, Бродский проходил по залу, как покрытая маслом игла в воде. В
этом зрелище было что-то из учебника физики. Как у однополюсных
магнитов, сила отталкивания увеличивалась от сближения тел.
Бродский привносил такое напряжение, что его собеседника бросало в пот.
Дефицит инерции -- отсутствие само собой разумеющегося -- мешал
собеседнику поддакивать, тем паче спорить, даже тогда, когда Бродский
говорил что-нибудь диковинное. (В начале перестройки он, например,
предлагал переориентировать КГБ на охрану личности от государства.) В
разговоре свойственная поэзии Бродского бескомпромиссность отзывалась
непредсказуемым разворотом мысли. Но иногда в беседе появлялись
неоспоримые в своей прямодушной наглядности образы. Так, объясняя
антропоморфностью свою любовь к старой авиации, он разводил руки,
становясь похожим на самолеты из хроники. Но чаще Бродский обгонял
собеседника на целый круг, и тогда он включал улыбку, сопровождаемую
теми вопросительными "да?", которыми пересыпаны все его интервью. Он
просил не согласиться, а понять. Улыбка, в которой участвовали скорее
глаза, чем губы, походила на ждущую точку в разговоре, полувынужденную
паузу, дающую его догнать. Не унижая собеседника, улыбка деликатно
замедляла разговор. Так тормозят на желтый свет, когда не уверены,
сменится он зеленым или красным.
Похоже, он и не придавал им значения. Важнее обмена репликами было само
присутствие, временное соседство в той или иной точке пространства.
Чаще, чем с людьми, Бродский ведет диалог с вещами. Молчание
неодушевленного мира Бродский понимал как метафизический вызов.
Вслушиваясь в немоту вещей и природы, он искал с ними общий язык.
или поздно приводящее автора в изгнание. Постепенно писатель, говорил
Бродский, приходит к выводу, что он обречен жить в безнадежной
изоляции. Его можно сравнить с человеком, запущенным в космос. Капсула
-- это язык писателя. Именно с ним, а не с читателем автор ведет
диалог, пока ракета удаляется с Земли.
концертами. Но прежде надо вернуть этому слову его этимологию,
отсылающую к музыкальному контрасту, к наигранному противоречию двух
партий, к дружественному поединку, в процессе которого антагонизм
оркестра и соло оборачивается полюсами одной гармонии.
третьим -- самим поэтом -- они составляли треугольник ошеломляющей
драмы, в которой разрешалось ключевое противоречие поэзии.
Бродского заведомо обгоняла смысл. Бессильный помочь аудитории,
Бродский оставался наедине со своими стихами, которые он читал как бы
для них самих. Произнося строчки вслух, он выпускал их на волю. Звукам
возвращалось то, что у них отняли чернила, -- жизнь.
профессии. Находя письменность малоприспособленной для передачи речи,
он решительно отдавал предпочтение звуку. Передать человеческий голос
способна только поэзия, причем классическая, всегда оговаривал Бродский
с настойчивостью сердечника, ценящего правильную размеренность ритма.
университетскому профессору, то именно устная природа стихов делает это
чудо возможным. Даже когда поэт обращается в "пустые небеса", сама
акустическая природа стиха дает ему надежду на ответ.
не повторяет, а меняет звук -- убирает длинноты, снижает тон,
повторяясь, рождает метр, возводя "в куб все, что сорвется с губ",
подбирает рифму. Только последняя, как утверждал Бродский, и способна
спасти поэзию. В рифме он видел самое интимное свидетельство о поэте,
неподдельный -- оттого что бессознательный -- отпечаток авторской
личности.
рифмующимся. Поэтому Данте, напоминал Бродский, никогда не рифмовал с
низкими словами имена христианского пантеона. Рифма -- метаморфоза. Не
хуже Овидия она показывает, что "одно -- это другое". Под бесконечными
масками внешних различий рифма обнаруживает исходную общность -- звук.
обладает способностью совершать круговорот -- претерпевая превращения,
не терять того, что делает ее собой.
в оборот взятый напрокат материал. Чтение стихов сближается с молитвой,
шаманским заклинанием, заговором, публичной медитацией, во время
которой внутренний голос поэта резонирует с речью, причем родной. Даже
для американцев Бродский обязательно читал стихи и по-русски.
Иностранные слова, говорил он, всего лишь другой набор синонимов.
отличается той же скупостью, что и его дикция. Фотографии, компенсируя
немоту, прекрасно передают статичность этого зрелища. Стоящий у
микрофона поэт напоминает вросшую в землю и потому ставшую видимой
колонну незримого собора звука. Похож он и на кариатиду, точнее --
атланта, сгорбившегося под тяжестью той "вещи языка", которой в стихах
Бродского назван воздух.
-- пепельница с горой окурков, как верещагинский "Апофеоз войны". От
снимка к снимку воздух будто сгущается от растворенных звуков.
Отработанные часы отзываются беспорядком в одежде: исчезает пиджак,
итальянским ярлыком задирается галстук, слева, над сердцем,
расплывается темное пятно на сорочке. Переход к крупному плану сужает
перспективу, но настраивает на резкость: колонна превращается в бюст,
поза -- в гримасу. Как в убыстренном кино, Бродский, демонстрируя
трансмутацию материи в звук, стареет перед камерой.
Дерека Уолкотта, попавших на общий снимок во время выступления в
нью-йоркском кафедральном соборе, Бродский отличается возрастом. Он
родился на десять лет позже самого молодого из них.
Пушкина, на 28 -- Лермонтова, на 8 -- Мандельштама, на 6 -- Цветаеву.
Если бы классики прожили столько, сколько Бродский, мы могли бы, как
мечтает Битов, взглянуть на фото Пушкина, прочесть, что написал бы
Лермонтов о Достоевском, Мандельштам -- о лагерях, Цветаева -- о
старости.
накопленную годами, он -- чтобы заранее знать, есть ли автору чему
научить читателя, -- предлагал крупно печатать на обложке, сколько лет
было писателю, когда он написал книгу. Однако, требуя точности в
возрасте других, он путался со своим. Если судить по стихам, Бродский
старостью не кончил, а начал жизнь. Поэт Сергей Гандлевский сказал, что
Пушкин обделил русскую поэзию уроком старости, Бродский торопился
заполнить этот пробел. "Мгновенный старик", по загадочному выражению
Пушкина, он уже в 24 года писал: "Я старый человек, а не философ".





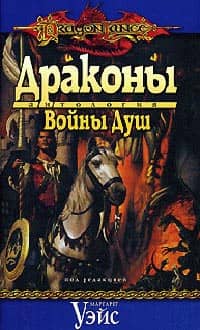
 Корнев Павел
Корнев Павел Буркатовский Сергей
Буркатовский Сергей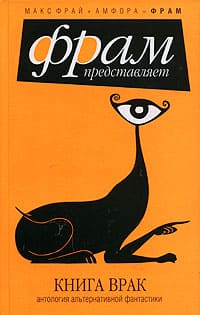 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман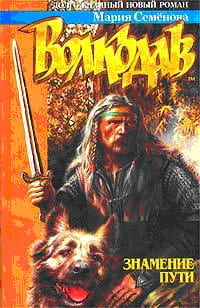 Семенова Мария
Семенова Мария Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Шилова Юлия
Шилова Юлия