век за веком в каждой культуре, своего глашатая. Поэтому стихотворение
Рильке - не столько пересказ мифа, сколько его рост. При всех различиях
между человеческим и божестве нным отсчетом времени - а такое различие
составляет ядро этого мифа - данное стихотворение остается историей одного
из смертных, рассказанной другим смертным. Вероятно, какой-нибудь бог
представил бы Орфея в более резком, чем Рильке, свете, поскольку д ля богов
Орфей - всего лишь нарушитель границы. И если вообще стоит начинать отсчет
его времени, то только чтобы отметить промежуток, нужный для его изгнания, и
у богов эпитеты для Орфеевых движений, без сомнения, несли бы оттенок
Schadenfreude.*(4)
нота личного воспоминания, оборота в прошлое - если угодно, запоздалого
сожаления. Такого рода ноты изобильно представлены в стихотворении, придавая
сделанному Рильке переск азу мифа аспект биографический. Для мифов у
человека нет иного вместилища, кроме памяти; тем более это относится к мифу,
сюжет которого составляет утрата. Незабываемым такой миф становится, если у
человека есть собственный опыт подобного рода. Когда вы г оворите об утрате,
античной или не античной, вы - на родной почве. Давайте поэтому перепрыгнем
через ступеньку и приравняем миф к памяти; таким путем мы избавим себя от
приравнивания жизни нашей души к растительному царству; таким путем мы хоть
как-то о бъясним неодолимую власть над нами мифов и очевидную регулярную их
повторяемость в каждой культуре.
реальность) - это ощущение незавершенного дела, ощущение прерванности. Это
же ощущение лежит и в основе понятия истории. Память, по сути, есть
продолжение того самого дела - будь т о жизнь вашей возлюбленной или
политика какой-нибудь страны - другими средствами. Отчасти из-за того, что
мы знакомимся с мифами в детстве, отчасти из-за того, что они принадлежат
древности, они составляют неотъемлемую часть нашего частного прошлого. А
наше прошлое обычно вызывает у нас либо осуждение, либо ностальгию -
поскольку нами уже не командуют ни упомянутые возлюбленные, ни упомянутые
боги. Отсюда и власть мифов над нами, отсюда их размывающее воздействие на
наши собственные воспоминания; отсю да, как минимум, и вторжение
автопортретных выразительных средств и образности в разбираемом
стихотворении. "Тупое нетерпенье" - хороший тому пример, поскольку
автопортретный образный строй, по определению, не может не быть нелестным.
выбирает, здесь игру по правилам античности, подчеркивая одномерность
мифологических персонажей. В целом, изобразительная формула в мифах сводится
к принципу "человек есть ег о назначение" (атлет бежит, бог поражает, боец
воюет и т. п.), и каждого определяет его действие. Было так не потому, что
древние, того не подозревая, были последователями Сартра, а потому что в те
времена все изображались в профиль. Ваза или, если на то
вполне соответствует изображению человеческой фигуры в искусстве древней
Греции: потому что на этой "единственной тропе" мы видим его в профиль.
Намеренно или не намеренно ( в конечном счете, это несущественно, хотя и
соблазнительно приписать поэту скорее больше, нежели меньше) Рильке
исключает любые нюансы. Поэтому мы, столь привычные к разнообразным - в
общем, стереоскопическим избражениям человеческой фигуры, находим это
кусками, не замедляя ход, чтоб их пережевать", - то давайте скажем здесь
нечто в полном смысле банальное. Давайте скажем, что в этих строках наш поэт
действует, как археол ог, снимающий отложения веков, слой за слоем, со своей
находки. Поэтому первое, что он видит, глядя на эту фигуру - это что она в
движении, - что он и отмечает. Чем чище становится находка, тем больше
проявляется психологических деталей. Столь низко ур онив себя таким
банальным сравнением, давайте вернемся к этим пожирающим путь шагам.
Автор прибегает здесь к этому образу не только чтобы описать скорость
движения Орфея, но и чтобы навести на мысль об истоках этой скорости. Здесь
явно - намек на Цербера, тр ехглавого пса, сторожащего вход в Аид (равно как
и выход, нужно добавить, поскольку это одни и те же ворота). В тот момент,
когда мы видим Орфея, он находится на обратном пути из Аида к жизни, а
значит, он только что видел чудовищного зверя и наверняка п реисполнен
ужасом. Поэтому скорость его движений объясняется в равной степени желанием
как можно скорее вернуть к жизни свою любимую жену и желанием уйти как можно
дальше от этого самого пса.
ужас перед Цербером превращает и самого пра-поэта в некое животное, то есть
лишает его способности думать. "Его шаги пожирали дорогу крупными кусками,
не замедляя ход, чтоб и х пережевать" - замечательная фраза хотя бы потому,
что она несет в себе намек на подлинную причину, по которой миссия героя
кончилась неудачей, а также и на смысл божественного запрета: не
оборачивайся назад - не поддавайся страху. Другими словами, не
стихотворение, он заранее решил расшифровать в нем главное условие этого
мифа. Скорее всего, это пришло интуитивно, в процессе сочинения, после того
как его перо вывело слово "п ожирали" - это вполне обычная интенсификация
речи. И тут вдруг все встало на место: скорость и страх, Орфей и Цербер.
Вероятнее всего, эта ассоциация лишь мелькнула у него в голове и определила
дальнейшее отношение к нашему пра-поэту.
пес. Через четыре с половиной строки, которые теоретически чуть увеличивают
расстояние между Орфеем и источником его страха - этот пес до такой степени
берет над ним верх, что наш герой даже физически, внешне приобретает его
черты:
последний слой почвы со своей находки, и мы видим состояние Орфея: он в
панике. Его взор, как челнок бегающий взад-вперед, хоть и верно ему служит,
однако компрометирует и его продвижение и его назначение. Но при этом наш
песик забегает гораздо дальше, чем кажется поначалу, - ведь слух Орфея,
который отстает от него, как запах, это еще одно ответвление того же самого
собачьего сравнения.
строки в изображении душевного состояния Орфея, механизм, определяющий
сдваивание в них его чувств (зрения и слуха), имеет и сам по себе большое
значение. Его можно отнести на счет выпирающих рифменных мышц поэта, но это
будет лишь часть правды.
в этом разобраться, нам нужно проделать обратное путешествие по времени. А
пока позвольте мне обратить ваше внимание на великолепную миметическую
беглость строк, о которых идет речь. Вы согласитесь, что беглость эта прямо
пропорциональна способности нашего песика носиться взад-вперед. Как
справедливо заметил И. А. Ричардс, это маленькое четвероногое выполняет
здесь роль "проводника".*(5)
такого проводника целиком поглотить содержание (или же наоборот, что бывает
реже) и запутать автора, не говоря о читателе: что' чем определяется? А если
проводник - четвероногое , то он очень быстро сообщение заглатывает. А
теперь давайте проделаем обратное путешествие по времени.
нужны точные координаты, то в седьмой век этого тысячелетия.
"бустрофедон". Буквально это слово значит "бычий ход" и означает форму
письма, которое похоже на пахоту, когда плуг, достигнув конца поля,
разворачивается и движется в обратно м направлении. На письме это означает
строку, которая бежит, слева направо, затем, достигнув поля, поворачивается
и бежит, справа налево, и т. д. Бо'льшая часть написанного в тот период
по-гречески была написана в этой, я бы сказал, бычьей манере, и оста ется
только гадать, был ли термин "бустрофедон" современником этого феномена или
же он был пущен в оборот post factum или даже в предчувствии оного? Ибо
определения, как правило, говорят о присутствии какой-то альтернативы.
шумерского. Еврейское письмо шло, как и сегодня, справа налево. Что до





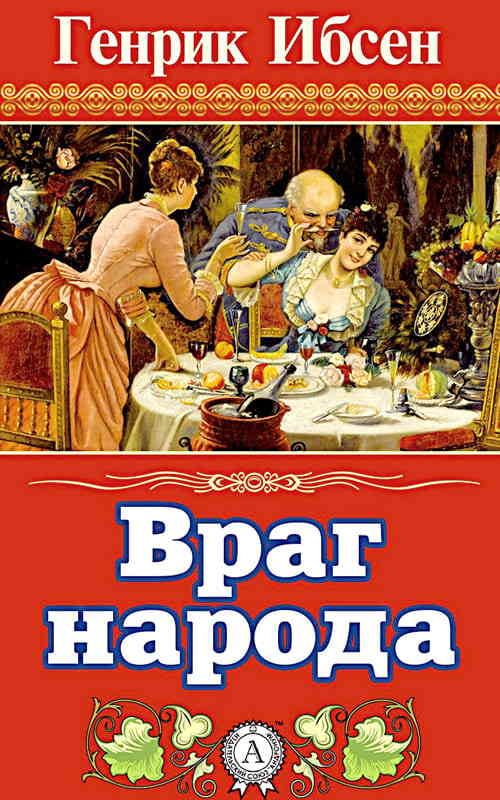
 Браун Дэн
Браун Дэн Бажанов Олег
Бажанов Олег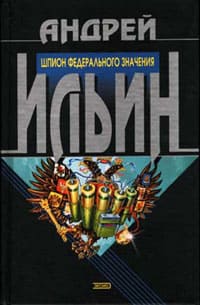 Ильин Андрей
Ильин Андрей Пехов Алексей
Пехов Алексей Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Чернецов Андрей
Чернецов Андрей