маленький браунинг и не сходя с места вышибу себе мозги, не сумев умереть в
Венеции от естественных причин.
всегда немножко декадент. Кроме того, план не был выполним ни в одной своей
части. Так что когда тридцати двух лет от роду я оказался в недрах другого
континента, посреди Америки, то первую университетскую получку истратил на
осуществление лучшей части моей мечты и купил билет туда-обратно Детройт -
Милан - Детройт. Самолет был забит итальянцами с заводов Форда и Крайслера,
едущими домой на Рождество. Когда посередине пути в хвосте открыли
беспошлинную торговлю, они ринулись туда, и на секунду мне представился наш
самолетик, летящий над Атлантикой словно распятие: раскинув крылья, хвостом
вниз. Потом поездка на поезде и в конце ее - единственный человек, которого
я знал в этом городе. Конец был холодным, сырым, черно-белым. "Земля же была
безвидна и пуста; и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водою",
цитируя бывавшего здесь раньше автора. И было следующее утро. Воскресное
утро, и все колокола звонили.
есть время. Может быть, это идея моего собственного производства, но теперь
уже не вспомнить. В любом случае, я всегда считал, что раз Дух Божий носился
над водою, вода должна была его отражать. Отсюда моя слабость к воде, к ее
складкам, морщинам, ряби и - раз я с Севера - к ее серости. Я просто считаю,
что вода есть образ времени, и под всякий Новый год, в несколько языческом
духе, стараюсь оказаться у воды, предпочтительно у моря или у океана, чтобы
застать всплытие новой порции, нового стакана времени. Я не жду голой девы
верхом на раковине; я жду облака или гребня волны, бьющей в берег в полночь.
Для меня это и есть время, выходящее из воды, и я гляжу на кружевной
рисунок, оставленный на берегу, не с цыганской проницательностью, а с
нежностью и благодарностью.
фантазии нет ничего от Фрейда или от хордовых, хотя, безусловно, можно
установить какую-то эволюционную - если не просто атавистическую - связь
между рисунком от волны на песке и пристальным на него взглядом потомка
ихтиозавров, который и сам чудовище. Поставленное стоймя кружево
венецианских фасадов есть лучшая линия, которую где-либо на земной тверди
оставило время-оно же-вода. Плюс, есть несомненное соответствие - если не
прямая связь - между прямоугольным характером рам для этого кружева, то есть
местных зданий, и анархией воды, которая плюет на понятие формы. Словно
здесь яснее, чем где бы то ни было, пространство сознает свою
неполноценность по сравнению с временем и отвечает ему тем единственным
свойством, которого у времени нет: красотой. И вот почему вода принимает
этот ответ, его скручивает, мочалит, кромсает, но в итоге уносит в
Адриатику, в общем, не повредив.
единственной разницей, что он не отделяется от тела, а полностью его себе
подчиняет. Немного времени - три-четыре дня,- и тело уже считает себя только
транспортным средством глаза, некоей субмариной для его то распахнутого, то
сощуренного перископа. Разумеется, любое попадание оборачивается стрельбой
по своим: на дно уходит твое сердце или же ум; глаз выныривает на
поверхность. Причина, конечно, в местной топографии, в улицах, узких,
вьющихся, как угорь, приводящих тебя к камбале площади с собором посередине,
который оброс ракушками святых и чьи купола сродни медузам. Куда бы ты,
уходя здесь из дому, ни направился, ты заблудишься в этих длинных витках
улиц и переулков, манящих узнать их насквозь, пройти до неуловимого конца,
обыкновенно приводящего к воде, так что его даже не назовешь cul de sac
*(5). На карте город похож на двух жареных рыб на одной тарелке или, может
быть, на две почти сцепленные клешни омара (Пастернак сравнил его с
размокшей баранкой); но у него нет севера, юга, востока, запада;
единственное его направление - вбок. Он окружает тебя как мерзлые водоросли,
и чем больше ты рыщешь и мечешься в поисках ориентиров, тем безнадежнее их
теряешь. И желтые стрелки на перекрестках мало помогают, ибо они тоже
изогнуты. В сущности, они играют роль не проводника, а водяного. И в юрких
взмахах руки туземца, у которого ты спросил дорогу, глаз, отвлекаясь от
треска "A destra, a sinistra, dritto, dritto" *(6), легко узнает рыбу.
пространства люди здесь существуют в клеточной близости друг к другу, и
жизнь развивается по имманентной логике сплетни. Территориальный императив
человека в этом городе ограничен водой; ставни преграждают путь не столько
солнцу или шуму (минимальному здесь), сколько тому, что могло бы просочиться
изнутри. Открытые, они напоминают крылья ангелов, подглядывающих за чьими-то
делишками, и как статуи, теснящиеся на карнизах, так и человеческие
отношения здесь приобретают ювелирный или, точнее, филигранный оттенок. В
этих местах человек и более скрытен, и лучше осведомлен, чем полиция при
тирании. Едва выйдя за порог квартиры, особенно зимой, ты сразу делаешься
добычей всевозможных подозрений, фантазий, слухов. Если ты был не один, то
назавтра в бакалее или у газетчика тебя встретит взгляд ветхозаветной
глубины, которая кажется непостижимой в католической стране. Если подал
здесь на кого-то в суд или наоборот, адвоката нужно нанять со стороны.
Приезжим, разумеется, все это по душе, местным нет. Горожанина не забавляет
то, что зарисовывает художник или снимает любитель. Но все-таки кривотолки
как принцип городской планировки (которая здесь становится членораздельной
только задним числом) лучше любой современной решетки и в ладу с местными
каналами, взявшими за образец воду, которая, как пересуды за спиной, никогда
не кончается. В этом смысле кирпич убедительнее мрамора, хотя оба
неприступны для чужака. Правда, раз или два за эти семнадцать лет я сумел
втереться в венецианское святая святых, в лабиринт за амальгамой, описанный
де Ренье в "Провинциальных забавах". Это произошло таким окольным путем, что
теперь мне даже не вспомнить деталей, ибо я не мог уследить за всеми ходами
и изгибами, приведшими тогда к моему в этот лабиринт попаданию. Кто-то
что-то кому-то сказал, а еще один человек, случайно там оказавшийся, услышал
и позвонил четвертому, в результате чего однажды вечером энный человек
пригласил меня на прием в свое палаццо.
юридических битв, которые вели несколько ветвей семьи, подарившей миру пару
венецианских адмиралов. Соответственно, два огромных с великолепной резьбой
кормовых фонаря брезжили в гроте высотой в два этажа - во дворе палаццо,
заполненном всяческими флотскими штуками, от Возрождения до наших дней. Сам
энный был последним в своей линии и получил палаццо после многих лет
ожидания и к великому огорчению остальных членов семейства. К флоту он
отношения не имел: немного драматург, немного художник. Правда, в тот момент
заметнее всего в этом сорокалетнем, худом, невысоком человеке в сером
двубортном костюме очень хорошего покроя было то, что он серьезно болен.
Желтизна кожи указывала на перенесенный гепатит - или, может быть, на
простую язву. Он ел только консоме и вареные овощи, пока его гости
объедались тем, что имеет право на отдельную главу, если не книгу.
открытие издательства для выпуска книг о венецианском искусстве. Когда мы
трое: коллега-писательница, ее сын и я - прибыли, прием был в самом разгаре.
Народу была масса: местные и слегка международные светила, политиканы,
знать, завсегдатаи кулис, бородки и шарфики, любовницы разной степени
яркости, велосипедная звезда, американские академики. Плюс компания
хихикающих, резвых, гомосексуальных молодцов, неизбежных в те дни всюду, где
имело место что-то мало-мальски приличное. Во главе компании стоял довольно
безумный и злобный петух средних лет - очень белокурый, очень голубоглазый,
очень пьяный мажордом этого здания, чьи дни здесь были сочтены и который
поэтому всех ненавидел. И правильно делал, добавлю я, ввиду его перспектив.
остальную часть дома. Мы охотно согласились и поднялись на маленьком лифте.
Покинув его кабину, мы покинули двадцатый, девятнадцатый и большую долю
восемнадцатого века.
кишащим путти. Свет все равно бы не помог, поскольку стены были закрыты
большими, от пола до потолка, темно-коричневыми картинами, которые,
очевидно, были написаны на заказ для этого помещения и перемежались едва
различимыми мраморными бюстами и пилястрами. Картины изображали, насколько
можно было разобрать, морские и сухопутные сражения, праздничные шествия,
мифологические сцены; самой светлой краской была винно-красная. Это были
копи тяжелого порфира, заброшенные, во власти вечного вечера, где за
холстами таились рудные пласты; безмолвие здесь царило истинно
геологическое. Нельзя было спросить "Что это? Чья работа?" из-за
неуместности твоего голоса, принадлежащего более позднему и явно
постороннему организму. Еще это было похоже на подводное путешествие, словно
мы составляли косяк рыб, проходящий сквозь затонувший галеон с сокровищем на
борту,- рта не раскрыть, не то наглотаешься воды.
комнату, в нечто среднее между библиотекой и кабинетом джентльмена


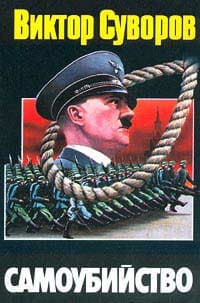



 Флинт Эрик
Флинт Эрик Шилова Юлия
Шилова Юлия Самойлова Елена
Самойлова Елена Никитин Юрий
Никитин Юрий Шилова Юлия
Шилова Юлия Лондон Джек
Лондон Джек