вкус и волю. Любимым наказанием доброй Золюшко было поставить
провинившегося мальчика в угол, заставив его... при всех детях снять
штанишки.
шли в школу и устраивали скандалы родителям, но те, приученные
относиться ко всякой власти покорно, или не смели роптать и заставляли
своих чад не гневать Золюшко, или и вовсе не видели в ее методе ничего
предосудительного. Золюшкин авторитет был огромен, и только один человек
на родительском собрании в присутствии нескольких десятков смиренных
обывателей заявил, что это дикость и варварство, и если не дай Бог его
ребенка коснется такое наказание, то он отправится в роно и этот день
будет последним днем ее работы в школе.
нахальную выходку запомнила.
праздничные картинки. В классе было серенько. Я сидел в полумраке у
стенки и старательно заканчивал композицию, на которой изобразил
центральную улицу, шествовавших мимо крохотной трибунки под дланью
карликового Ильича веселых манифестантов, редкий снежок и хмурые небеса,
флажки, воздушные шарики, лозунги, райком партии с колоннами и уличный
буфет. Я так увлекся работой, что не слышал, как золюшкина тень накрыла
меня сзади и учительша нависла надо мной.
придушенным голосом, выхватила картинку и торжествующе подняла ее над
головой.
светлое будущее, отчего празднество напоминало не то мусульманский
курултай, не то акцию Гринписа.
совершенно бесстрастными. Я сделал несколько шагов к двери, все еще
надеясь, что до самого ужасного не дойдет.
оставшись в застиранных черных трусиках.
чувств повалился на пол.
тихо. За окном шел крупный и мягкий снег. Окно смотрело на улицу, за
которой начиналась река. Я накинул рубашку, аккуратно вынул внутреннюю
раму и распахнул наружную. Я не понимал, что делаю, и впоследствии не
мог ответить на вопрос, делал ли это сознательно, или продолжались мой
бред и страх, или было желание уйти туда, где Золюшко нет. Но я шел и
шел, падал, обжигаясь о снег, потом вставал и снова шел. Каждый раз,
когда падал, мне становилось не холоднее, а теплее. Поле покрывал наст,
и идти было нетрудно. Вскоре я подошел к лесу, где жили волки, но даже
волков я боялся меньше, чем Золюшко. Там снова упал, и мне стало совсем
тепло.
кладовую или подсобку овощного магазина. На земляном полу стояли весы, а
возле них - в окружении ящиков с тушенкой, больших коробок с макаронами
и крупой, мешков с сахаром и мукой, мерзлых туш - чернявый небритый
весовщик в солдатской робе.
замер.
были отчетливо видны. По этим следам отправились солдаты, и, уже
полузамерзшего, меня нашли на берегу рано вставшей в тот год Чагодайки
недалеко от полыньи, где полоскали бабы белье и всегда дымилась черная
звездная вода. Семеро суток я провел в жесточайшем бреду и вернулся в
школу совсем другим человеком, не то что-то потерявшим, не то, наоборот,
обретшим.
или роно не пошел и скандала устраивать не стал, а просто вызвал меня к
себе и, жестко глядя в глаза, сказал:
последующую жизнь, кто кого предал: я отца или отец меня?
III
ужа или дохлую мышь, облить нечистотами, изрисовать стены школы обидными
словами. С мыслями о мщении я ложился спать и просыпался, все остальное
потеряло для меня всякий смысл, будто разом кончилось мое детство.
Иногда я приходил к ее дому. Он стоял на другом конце города, я шел
через весь Чагодай за реку и со странным чувством смотрел на темную
деревенскую избу, которую мог поджечь, перебить окна, но почему-то не
решался этого сделать, а только мысленно представлял, как загорится
заречная сторона и разметнется на полнеба зарево пожара.
не делала замечаний и не вызывала к доске. Мало этого, она прекратила
наказывать всех остальных мальчиков. В классе это почувствовали, начали
потихоньку распускаться, проверяя и провоцируя ее. Потом мы узнали, что
один из мальчишек забил ее дверь гвоздями. Его имя шелестело по всей
школе, но Золюшко даже не учинила обычного допроса. Она сдавалась и
отступала - присмирела, осунулась, голос и походка ее изменились, класс
торжествовал победу, только я совсем этому не обрадовался. Мне не
хотелось дальше жить, солнце казалось не таким ярким, как обычно, более
тусклым было белесое небо, я боялся засыпать ночами и лишь деланно
улыбался, когда баба Нина поила меня козьим молоком, качала головой и
приговаривала:
ее в коридоре, я вспоминал о том, что остался неотмщенным, если только
моя месть не заключалась в совершенно ином, чего я и не мог тогда
представить.
но и на умственные способности и числившиеся до того в отличницах
девочки с примерным поведением начали плакать из-за двоек и троек по
физике и математике, неожиданно обнаружилось, что я решаю сложные
примеры так легко и быстро, словно это были простые арифметические
действия, и непонятным образом угадываю ответы на любые задачки.
Математичка, пожилая, крикливая и вальяжная старая дева, конфликтовавшая
со всей школой, часто болевшая, опаздывавшая на работу, но при этом
любившая полурока рассказывать про своего кастрированного кота и про
город Ленинград, откуда ее вывезли перед первой блокадной зимой и куда
она так и не вернулась, но презирала давший ей приют Чагодай с чисто
столичной решимостью, долго не могла поверить, что в пошехонском
захолустье появилось на свет дитя с математическим талантом.
обыскивала парту, перетряхивала пенал, сажала рядом с собой, но каждый
раз я раньше всех клал неряшливо исписанный листок бумаги, в котором
можно было найти сколько угодно помарок, описок и клякс и ни одной
ошибки. По остальным предметам я по-прежнему учился плохо, только
математика давалась мне легко. На уроках я скучал, и быстрый огонек
понимания, когда Анастасия Александровна коротко объясняла новый
материал, разочарованно гас. Преподавательница разрывалась между
загипнотизированным дробями и многочленами классом и моими скучающими
глазами и давала мне дополнительные задачи из учебника для девятого
класса. Была ли она доброй и разумной женщиной или просто хотела утереть
педсовету нос, но, несмотря на скептицизм завуча и директора, в шестом
классе добилась, чтобы меня послали на областную олимпиаду в Тверь.
бумаги с профилем Ленина и круглой печатью облоно повесили в углу
большой комнаты рядом с божницей и семейными фотографиями. Бабушка
показывала его соседям, мама вытирала глаза и всхлипывала, а отец впал в
странную задумчивость. Он перестал меня ругать, несколько раз звонил в
Тверь и реже отлучался из дому.
школе, приходили смотреть из других классов, внимательнее и растеряннее
сделались учителя, не знавшие, какие теперь ставить оценки. Анастасия
Александровна торжествовала и перед каждым уроком кормила своего
любимчика булочками с маком по тринадцать копеек из школьного буфета. Но
от этого вознесения мне сделалось не радостно, а жутко.
ни постоянный контроль со стороны учителей и потеснившихся ревнивых
отличников. Я хотел жить тихо и незаметно в соответствии с велениями
чагодайской крови, веками воспитанной на мимикрии, но по математике я
просто не умел учиться плохо. Находить верное решение было для меня так
же естественно и легко, как ходить или дышать.
на берегу Чагодайки пришло письмо с приглашением учиться в
математическом интернате при Московском университете.


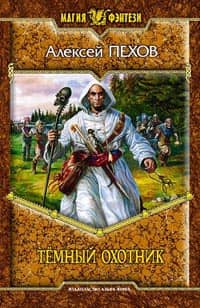



 Свержин Владимир
Свержин Владимир Ильин Андрей
Ильин Андрей Корнев Павел
Корнев Павел Бажанов Олег
Бажанов Олег Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Каменистый Артем
Каменистый Артем