с женщиной. Я жалел и спрашивал себя: почему не остановился, почему
позволил уловить свою тогда еще не погибшую душу, вместо того чтобы
затянуть тело в вериги и ремни и жить по не мною выдуманным вековым
правилам?
университетских садов, а из газет и телевизоров - последним холодком
утраченного времени, но все равно пели соловьи и цвела сирень, в милом
моему сердцу парке над Москвой-рекой на глазах у сбившей меня с
панталыку, а теперь перетрухнувшей любительницы острых ощущений Алены,
главная претензия которой к похотливым людишкам за желтыми заборами
состояла в том, что ее, студентку романо-германского отделения, не
выпустили на родину Гарсиа Лорки изучать испанский язык, а потому власть
в стране надо немедленно переменить и разрешить всем ездить куда угодно,
я сжег позорную красную книжицу члена ВЛКСМ, всю испещренную разными по
степени яркости штампиками со словом "уплочено".
у виска и, не оборачиваясь, побежала навстречу чистомордым охранникам.
с хохляцкой упертостью ругался с тишайшим преподавателем, задавал ему
дурацкие вопросы про Сталина, военный коммунизм, правую оппозицию и
гибель нэпа. Видимо, сам в душе не чуждый либерализму, он однажды
оставил меня после занятий, похвалил за желание разобраться в проклятых
вопросах бытия, однако посоветовал делать это в другом месте и даже
пообещал дать адресок, где собираются вольнолюбивые толкователи
советской библии, гася в долгих поднадзорных спорах о Троцком и Бухарине
энергию сопротивления. Да только я уже закусил удила и пошел вразнос,
хотя найти единомышленников мне так и не удалось, и на свой страх и риск
в одиночку развешивал ночами в университете листовки и писал на стенах
грозные лозунги.
сперва мягко, а потом строже, лишили повышенной стипендии и объявили
выговор за то, что не пришел на субботник, поставили двойку по
несуществующей науке под названием "политэкономия социализма". Евсей, в
чьих учениках я по-прежнему числился, меня покрывал, но дальше этого
никогда не шел и ни в чем не поддерживал, будто его не касалось. Я-то
был убежден, что коль скоро он заступился, то должен был и во всем
прочем союзником стать, и не мог понять, чтоЂ за его отстраненностью
таилось - осторожность, неведомый расчет или просто равнодушие и эгоизм?
математических экзерсисов высказывать филиппики насчет прогнившей
системы.
заблудиться можно.
сбежал, и, быть может, благодаря моему происхождению он не стал рушить
легенду о выдающихся способностях своего оступившегося ученика. Он
ничего не требовал и будто дал вольную - живи и делай, что хочешь. Я не
сомневался, что, случись у меня необходимость оставить на хранение
пишущую машинку, бумажки или книги, он бы их взял.
Потому что с той поры, как мои попытки взять его в диссидентские рекруты
окончились ничем, я стал презирать людей, вроде нашего либерал-доцента с
кафедры научного коммунизма, которые все понимали, но нарушать
комфортную жизнь не хотели и вызывали гораздо большую неприязнь, чем те,
кто стремился схватить меня за руку. Я теперь вспоминал, что иные из
этих книг и у нас в доме были и папа их читал, наверное, давали друзья,
с которыми он учился или ходил в горы. Может быть, там, среди ледников,
на высоте, где нельзя развести костер, а пищу готовят на примусах и вода
кипит при температуре семьдесят градусов, где кружится от кислородного
голодания голова и невозможно согреться ночью от стужи, а днем спастись
от сжигающих кожу солнечных лучей, где никто, кроме мифического черного
альпиниста, пугавшего путешествующих восходителей, не мог их слышать,
они спорили, возмущались.
уходил в горы да ограничивался отказом от райкомовских пайков, пока и
вовсе не пошел в услужение власти? Почему свое мужество, энергию,
готовность рисковать и презирать опасность, быть может, жившие ради этих
минут и готовившиеся к ним целый год, они не использовали для того,
чтобы подняться во весь рост и распрямиться на равнине, где было это в
сто крат опаснее и нужнее?
учитель неспособны оказались. Я собой упивался, себя любил, а главный
редактор чагодайской газеты просто не верил, а старший преподаватель
механико-математического факультета все точно рассчитал и знал, когда
пройдут все сроки, и ждал, никого не торопя и ни в чем мне не мешая,
покуда на наших глазах трое генеральных секретарей Богу душу отдали.
тетрадях - двое скучных поджарых мужиков, потом один достал из портфеля
кипятильник, они стали пить чай, есть булки и яблоки и на меня даже не
глядели. Я взял гитару и заиграл Галича. Я играл громко, чтобы было
слышно в коридоре, - они поначалу не обращали внимания, потом досадливо
поморщились, будто слышали в моем пении или в чудной песне хриплого
парижанина "Я выбираю Колыму" фальшь. А я все пел и пел, и еще сильнее
капало за окном, и было все равно, что со мной сделают.
народ, минуя Лубянку и Бутырку, меня отвезли на Савеловский вокзал. На
перроне вернули отобранный в начале обыска паспорт, посадили в поезд и
велели убираться по месту постоянной прописки - в город Чагодай.
VII
чемоданами, сумками и тюками. Напряженно вглядывались во тьму, пытаясь
угадать название нужной им маленькой станции, две женщины, которые везли
в деревню молочных поросят и цыплят, но на все вопросы молодая
проводница в сером халате только пожимала плечами. Она сажала
безбилетных пассажиров, торговала пивом и водой, в вагоне было холодно и
душно, как бывает в поездах, где спит народ на третьих полках и сидит
вповалку на нижних. Особо активный пассажир с четырехлетней дочкой
ругался из-за сырого белья и грязного туалета, все тихо возмущались, но
никто его не поддерживал. На шум появился и исчез, как чеширский кот,
жуликоватый начальник поезда. Потом наевшийся крутых яиц и жирной
московской колбасы народ отвалился и захрапел.
все угомонились, вдруг сделалось сиротливо. Я сидел на нижней боковой
полке плацкартного вагона и, полуотвернувшись от соседей, точно вжался в
окно. За ним проносилась знакомая дорога с пустыми полустанками,
столбами, переездами и колодцами, по другую сторону, в вагоне - ехали
те, кто ее населял и жил в рассеянии и кучности. Это и был мой народ,
чагодайское племя, среди которого предстояло мне существовать и
попытаться объяснить, за что меня начальство против шерстки погладило.
ход поезд несся, как в бездну, громыхая на стыках рельс и раскачиваясь
из стороны в сторону, так что казалось, еще одно колебание - и его
сорвет с полотна. Люди спали, никто не подозревал об опасности - только
неведомый машинист вел состав назло всему через тьму, ветер и дождь. И
мне подумалось, что этот поезд и есть раскачивающаяся на стыках страна -
несущаяся Бог знает куда, может быть, уже и не по рельсам, а через топи
и болота, и один машинист видит освещенный яркой фарой путь. Но вдруг
стало страшно, что машинист заболел, сошел с ума, напился или нет там
машиниста. Мчится по безлюдной блестящей дороге поезд без рулевого,
разгоняется на рельсах под уклон - и никто в громадной, безмятежной,
наевшейся, напившейся до отвала и наворовавшейся жалкого добра стране
этого не знает.
которой стоял невыспавшийся печальный начальник поезда, и растолкала не
грубо, а очень боязливо, точно я был обвешан гранатами.
снег в лесу лежал, на озерах и водохранилище стоял лед, и по этому
последнему льду шла рыба - единственная отрада для местного мужичья. До
утра я сидел в тесном зальчике, выходил курить и пил пиво, стараясь не
болтать бутылку, чтобы не поднимался со дна осадок.
лицами мужики с ледобурами, в ватных штанах, полушубках, сапогах,
валенках, с резиновыми камерами, и вспомнилось из детства: каждый год по
весне гибнет на Рыбинском водохранилище не один человек - на льдине
уносит.
не ждал, никто не увидит, как я сяду в обратный поезд, и не уследит за
мной в большом городе.
сообщили, что его сын исключен из университета и выслан из Москвы, и от
этого стало мне неуютно. Даже если отца не снимут с работы, все равно
затаскают по комиссиям, влепят строгий выговор, как он у них там





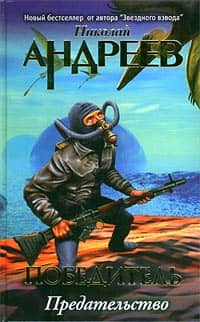
 Орлов Алекс
Орлов Алекс Корнев Павел
Корнев Павел Громыко Ольга
Громыко Ольга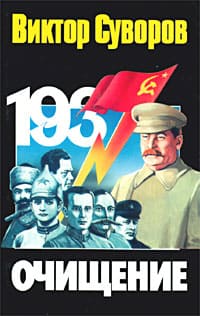 Суворов Виктор
Суворов Виктор Орлов Алекс
Орлов Алекс Акунин Борис
Акунин Борис