Виталий Владимиров
Свое время
Жизнь длиннее, чем надежда,
но короче, чем любовь.
Считать, что время проходит - вот
будешь вечно.
Глава первая
Бесконечно падают в вечность песчинки мгновений, и прах времени паутиной
забвения затягивает прошлое. Исчезают запахи, линяют краски, все глуше голоса
прошлого - так память бережет своего хозяина, потихоньку отсеивает все худое,
не дает мне надорваться под бременем пережитого. Но есть события, которым
суждено остаться в памяти по-прежнему яркими. Как вспышка.
вижу спрятавшийся за деревьями старого парка, покрытыми прозрачной ве-
сенней зеленью, длинный желтый дом с мезонином, ворота бывшей барской
усадьбы, группку провожающих, и сквозь окно автобуса - глаза Наташи.
пившиеся в лацканы пальто Наташкины руки? Не навечно же разлучало нас
это прощание, но уже раскололось что-то, и невидимая пропасть пролегла
между остающимися и уезжающими.
стационарного отделения противотуберкулезного диспансера. Туберкулезные
палочки Коха есть почти у всех. Они вяло дремлют в лимфатических узлах
подавляющего большинства людей.
- срок вполне достаточный, чтобы понять, что же их разбудило.
шись, уплыла вбок, словно отвели объектив киноаппарата, Наташа, автобус
нырнул в ворота и выбрался на шоссе. На переднем стекле еще некоторое
время трепетал, как бы пытаясь удержаться, неизвестно откуда взявшийся
прошлогодний лист под щеткой дворника, но и его снесло ветром.
лярны вертикальным горячим ребрам радиатора отопления, мама сидит на по-
лу, поджав ноги, строит колонку из кубиков, они падают, рассыпаются по
паркету, я смеюсь, мама протягивает мне руки, а я боюсь оторваться от
теплой батареи, которая бурчит и вздыхает, как живая, я боюсь кубиков,
потому что они только притворяются неживыми и ждут, когда я на них нас-
туплю, чтобы вывернуться из-под ноги, и я смеюсь, но к маме не иду, хотя
ужасно хочется упасть в ее протянутые руки.
сейчас говорят...
ография уложилась в три слова: родился, учился, женился.
было, нет и не будет.
Глава вторая
Глава вторая
Простая история: родился...
плотным холодом. Зябко вылезать из теплой, согретой за ночь постели, но
любопытство и острое, до замирания души, опасение - а вдруг она исчезла?
вдруг ее унесли черной ночью - пересиливает все. Мгновенно покрываются
гусиной кожей ноги и руки, а тут еще неудача - огромный стул с гнутой
спинкой надо передвинуть - он упирается, недовольно скребется толстыми
ногами по полу, приходится толкать его всем телом, он, нехотя, боком
застревает в ребрах батареи отопления, зато теперь уже просто: сначала
на стул, потом на ледяной подоконник, чтобы сквозь мерзлые узоры стекла
выглянуть в занесенный снегом палисадник. О, радость! - она стоит, за-
вернутая в мешковину, среди поникших, голых, как бы сломленных морозом
вишен, яблонек и груш, и остро торчит ее зеленая вершинка. Она - прише-
лец из другого, неведомого моей памяти пространства - из леса, она -
весталка праздника, его алтарь и жертва.
растянутых лихорадочным ожиданием мгновений, пару раз заглядывает со-
седская тетя Клаша, торопливо проносится обед, разделенный с усталой,
молчаливой матерью, забежавшей до мой с работы, серый свет за окном не-
заметно старится, становится сумеречней, пока глаза не слипаются от
крепкого сна...
Скорей одеваться - штопаные, перештопанные чулочки, короткие, совсем уже
не по росту рубашка и штанишки, валеночки, через плечи крест-накрест
шаль, завязанная на спине узлом. Нас пятеро или шестеро малышей со всей
квартиры, и елка - на всех одна, но для каждого она - своя елка.
Игольчато-колючая, смолисто-пахучая, в блеске мишуры и спиралях разноц-
ветного серпантина, увенчанная зеркально-лазурной звездой...
так удивительно похожие на те, настоящие, охраняющие черное небо военной
поры...
ации, светлая горница деревенской бабки где-то под Саратовом да судорога
голода, доводящая почти до обморока и через сорок с лишним лет. Немец в
сорок первом надвигался так стремительно, что последовал решительный
приказ - перерезать скот, чтоб не достался врагу.
крохотной комнатке, тридцатиметровый коридор, где, по мимо нас, еще
шестнадцать душ по закуткам. Ежедневный поход в школу пролегал мимо сада
"Эрмитаж", кинотеатра "Экран жизни", далее по Косому переулку и дворами
до Каляевской. И так изо дня в день, пока на экране моей жизни не возник
серый мартовский день пятьдесят третьего. Объявленное по радио страшное
известие потрясло всех - осиротел народ. В тот день в школе стояла нео-
бычная тишина - никто не носился, как угорелый, по коридорам, не "жали
масло" из зазевавшегося у стенки пацана, не стреляли горохом из металли-
ческих трубочек ученических ручек. Учительница истории Раиса Абрамовна
вызвала к доске, нет, не вызвала, пригласила второгодника Леньку Лямина
и попросила его прочесть автобиографию великого вождя и друга народов
мира. Ленька, отбывающий свой срок в школе, как тяжкое наказание, Лямин,
которого никакими угрозами и посулами невозможно было заставить сделать
что-либо общественно-полезное, непривычно-серьезный Ленька читал все со-
рок пять минут сказку о жизни такого мудроо, такого простого, такого
прозорливого пастыря, который покинул свое стадо.
Ленька Лямин продолжал читать и читал до конца.
Косой переулок - прохожие, если попадались, шли в одну сторону - к цент-
ру. Москва спешила на похороны, боясь опоздать, люди шли днем, шли
ночью, по одиночке, семьями, группами, делегациями, колоннами, неоргани-
зованными толпами, создавая гигантские человеческие пробки на Самотеч-
ной, Трубной, Неглинной. В выбитые витрины магазинов ставили детей, что-
бы спасти их от давки. Очередь начиналась от Курского вокзала, двигалась
перебежками по Садовому кольцу, сворачивала на улицу Чехова и дальше шла
медленным шагом по улице Герцена до Дома Союзов, где лежал Он. Лезли,
как муравьи, вовсе щели, поднимались по пожарным лестницам, прыгали с
крыш домов во дворы, протискивались под воротами - лишь бы увидеть того,
кто при жизни так редко являлся народу... Гения...
милиции. Он и вправду был черноволос, смугл и белозуб... Объявился Цыган
после амнистии, в пятьдесят четвертом, но гулял на воле недолго. Вокруг
него тут же собралась пацанва, для которой самой великой наградой в жиз-
ни была похвала, одобрение Цыгана.
да-да...", азартно заиграл в новые игры на деньги - очко, три листа, же-
лезку, заговорил на чудном, непонятном для непосвященных языке - "по фе-
не ботаешь?" И мы восторженно смотрели Цыгану в рот, поднимали воротники
своих пальтишек, эта привычка у меня до сих пор так и осталась, руки
всегда держали в карманах.
ничего худого. Мы знали их - шпана из Колобовских переулков. Но один из
них, видно главный, в надвинутой на глаза кепке и белом кашне, растопы-
рил руки и пошел на Цыгана, почти не выговаривая, а как бы сплевывая






 Шилова Юлия
Шилова Юлия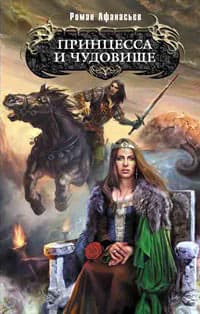 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман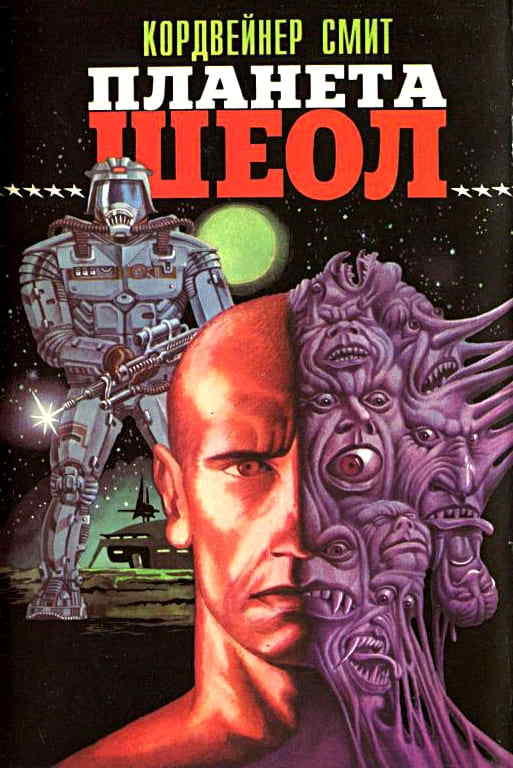 Смит Кордвейнер
Смит Кордвейнер Панов Вадим
Панов Вадим Шилова Юлия
Шилова Юлия Пехов Алексей
Пехов Алексей