всю корреспонденцию. Деловые письма откладывала (не убегут!), личные же
сразу же разносила по столам. Возьмется кто другой и начнет требовать:
станцуй -- дам письмо. Таких шуток мать не переносила. Она любила быстрей
отдавать письма, любила, но при этом нервничала.
радости. Их-то отец уже не писал. Плановика Марину все считали материной
подругой, хотя она была лет на десять моложе. Снимала она угол неподалеку от
треста. Попала Марина в эвакуацию на Урал из Украины, смуглая и чернобровая
среди всех бледных приезжих. На носу и щеках ее пестрели веснушки --
чуть-чуть, ровно столько, чтобы выглядеть невероятно симпатичной.
Господи, какая ж ты красавица!..
гляделась в зеркало.
никого даже обнадеживающим взглядом не удостаивала. Что бы ей ни говорили,
чего бы ни предлагали, хохотнет, да и только. Если кто понахальней, то так
отбреет, что хам после весь день, небось, вареным раком себя чувствует и на
следующий день хорошо подумает, прежде чем опять подступаться.
Гриша, а она ему регулярно отвечала.
учиться в техникум в областной центр, откуда Григория в первый день войны
забрал военкомат. Марина же, отплакав свое одиночество, сидела в общежитии
техникума до тех пор, пока фашисты не подошли к самой окраине города. Потом
бежала, куда глаза повели, и чудом спаслась.
читала, отложив работу, все женщины на нее смотрели, и она это знала. Сперва
она непременно пожимала плечами. Вот, дескать, чудище, пишет всякую чепуху.
Но это так, от кокетства. Постепенно щеки ее розовели, и чем дальше, тем
приятнее было ей читать.
взгляды женщин она молча протягивала им листок, исписанный бисерным
почерком, чтобы влезло как можно больше. Женщины перечитывали эти странички
по нескольку раз, согреваясь чужим теплом, а после еще долго обсуждали друг
с другом детали.
и негде было: и в общежитии, и в городском парке день и ночь народу полно...
откладывали до счастливого времени. И вот теперь...
совершенно не шло.
себя тоже. Сперва пропускала про поцелуи, потом все стала читать. Люська эти
письма помнила наизусть. Ей четырнадцать стало, да и Олег на год подрос.
подробностей о войне. Не только потому, что это запрещалось военной
цензурой, но, видно, и неинтересно ему было. Больше всего вспоминал он, как
жили до войны, дом, родных и соседей, учителей, школьные проделки товарищей.
Потом он в подробностях описывал Марину, какой ее запомнил: руки, глаза,
брови, плечи, волосы. Будто он писал вовсе не ей, а вел некий дневник.
Описания эти заменяли ему живые встречи. Еще Григорий мечтал в письмах, как
они будут жить после войны. Сыграют свадьбу веселую, все будут петь,
плясать, никто не вспомнит войну. Ее надо будет забыть, как будто ее вообще
не было. Если войну не забыть, то счастья не будет. Только вот как забыть,
когда кругом столько крови и грязи, что за целый век не расхлебать? Мечтал
Григорий вернуться в домик родителей с молодой женой Мариной. Насадят они
вокруг домика яблонь, народят мальчика, девочку и будут бегать с ними
наперегонки через луг к речке Камышовке.
военкомате, чернобровый, как Марина, толстощекий, с большими печальными
глазами, он стоял по стойке "смирно" и строго глядел в объектив, как смотрят
солдаты на всех фотокарточках.
на машинке. Олега знали, за глаза звали "немчонком", но любили, давали кто
карандаш, кто пустой коробок из-под скрепок. В коробочках этих удобно было
держать марки и гайки, которые мальчшки отвинчивали на свалке с разбитых
танков.
правда, строгий был человек. Когда сотрудницы собирались вокруг Марины
обсудить письмо, главбух выходил из стеклянной загородки, завешанной планами
и социалистическими обязательствами по перевыполнению того, что еще не было
выполнено. Все поспешно умолкали и мгновенно расходились по местам. Шагал
Корабелов торжественно, маленький и крепкий, в черном неравномерно выцветшем
костюме с протертыми зелеными нарукавниками. Черты лица его были на редкость
правильные, и сам вид его внушал доверие. Если день был солнечный, то на
свету становилось видно, что лицо его поедено оспой, а стекла очков толстые,
как лупы, которыми мальчишки выжигают на заборах ругательства. Главбух
высоко поднимал подбородок, молча глядя из-под очков на женщин, которые были
выше его. Выше были все.
читал по складам. Ключ в сейф вставлял на ощупь. По остальному здоровью и
возрасту Корабелов вполне бы мог находиться в действующей армии, да глаза
подвели. Все могли понять и простить трестовские женщины в ту пору, ибо все
были без мужей. В тресте говорили, что незадолго до войны умерла у него во
время родов жена, и с тех пор стал он так строг и угрюм. Впрочем, при
хорошем настроении главбух мог и пошутить, даже засмеяться.
даже для начальницы треста, женщины немолодой, но за собой следящей. Всех
работниц, независимо от возраста и должности, он сухо звал по
имени-отчеству, только Марину просил:
квартальчик!..
должность красавицы. Не у всех о том была забота в сорок втором году. И
потом, Марина действительно была вне конкуренции.
Лет Левушке было около сорока. Ростом он был не выше старшего брата, изрядно
полысевший, словно с цыплячьим пушком на голове. Жена у Левушки утонула
прошлым летом, когда они купались вместе, и слухи ходили, что они
поссорились и Левушка ее утопил. Но, может, это просто злые языки каркали.
Так или иначе, оба брата куковали без жен вместе.
возле женщин, рассказывал что-то смешное. Они оживились, стали
причесываться, украдкой передавали друг другу зеркальце.
скользнула взглядом по младшему Корабелову, села за свой стол и уткнулась в
бумаги. Левушка покраснел, засмущался, стал говорить несуразно. Едва
вернулся главбух, младший брат поспешно убрался к нему за стеклянную
перегородку.
человеком солидным, работал инженером на военном заводе в"--79, где делали
приборы для самолетов, поэтому ему полагалась "броня" -- освобождение от
фронта.
событие никого особенно не заинтересовало. Обсуждали другое: из всего треста
пригласил он к себе одну Марину. Женщины сразу маневр раскусили, и некоторые
были недовольны. Не потому, конечно, что не их пригласили, а от того, что не
к главбуху Марина шла. Как же так? Ведь у нее жених на фронте!
за стеклянной перегородкой и от имени администрации и профкома намекнула,
что ситуация щекотливая. Корабелов-старший выслушал ее спокойно, ни словом
не перебивая, даже кивая иногда в знак согласия, и ответил искренне:
рождения. Никого я никогда не приглашаю, но тут братан настоял. Откуда мне
знать, может, ничего, может, сговор у них какой? Не дети, чай... А что,
кстати, сама красавица голоса не имеет? Ее-то спросили?
другой стороны, чего спрашивать, когда мясотрест в курсе ее личной жизни до
малейших деталей, описанных в письмах Гриши?
и все про это приглашение забыли. Но еще через два дня, когда мать положила
ей на стол конверт с фронта от Гриши, Марина письмо прочитала и убрала в
стол, а стол, как все заметили, заперла.
она их в ящике прятала. Письма по-прежнему часто шли, но мать как преданная
подруга старалась передавать их ей потихоньку, чтобы никто не видел.
бухгалтерию. Событие по тем временам было редкое, если вообще не уникальное,
и всех, естественно, взбудоражило. Если бы никого не звали или же попросили
избранных, меньше было бы в тресте разлада. А тут такое началось, чего свет
не видывал.
Маринина верность была их верностью, и измена ее становилась теперь их
изменой. Все они могли понять, все простить, эти женщины, только не это.
право разлюбить. Да и была бы жена, что же она -- не человек? Всяко в жизни






 Адамов Григорий
Адамов Григорий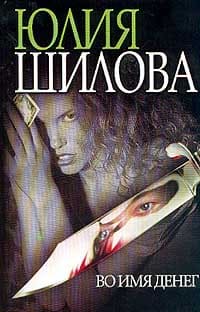 Шилова Юлия
Шилова Юлия Громыко Ольга
Громыко Ольга Пехов Алексей
Пехов Алексей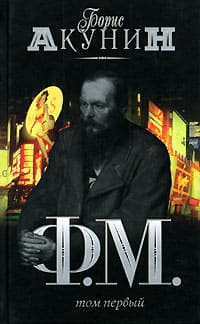 Акунин Борис
Акунин Борис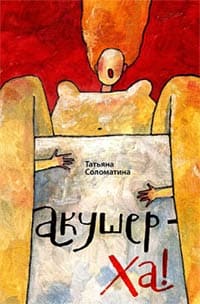 Соломатина Татьяна
Соломатина Татьяна