только чьей-то тенью. А может быть, сами вы все -- мои тени. Разве я не
населил вами эти страницы -- еще недавно четырехугольные белые пустыни. Без
меня разве бы увидели вас все те, кого я поведу за собой по узким тропинкам
строк?
самое мучительное -- это заронить в человека сомнение в том, что он --
реальность, трехмерная -- а не какая-либо иная -- реальность. Я только сухо
заметил ей, что ее дело открывать дверь, и она впустила меня во двор.
плечом к плечу, двое-одно, вышли снизу, из коридоров -- если только это
действительно было. Я шел под какими-то каменными арками, где шаги,
ударившись о сырые своды, падали позади меня -- будто все время другой шагал
за мной по пятам. Желтые -- с красными кирпичными прыщами -- стены следили
за мной сквозь темные квадратные очки окон, следили, как я открывал певучие
двери сараев, как я заглядывал в углы, тупики, закоулки. Калитка в заборе и
пустырь -- памятник Великой Двухсотлетней Войны: из земли -- голые каменные
ребра, желтые оскаленные челюсти стен, древняя печь с вертикалью трубы --
навеки окаменевший корабль среди каменных желтых и красных кирпичных
всплесков.
на дне, сквозь толщу воды -- и я стал искать. Проваливался в ямы, спотыкался
о камни, ржавые лапы хватали меня за юнифу, по лбу ползли вниз, в глаза,
остросоленые капли пота...
не было. А впрочем -- так, может быть, и лучше: больше вероятия, что все это
-- был один из моих нелепых "снов".
вернуться на главный двор. Вдруг сзади -- шорох, хлюпающие шаги, и передо
мною -- розовые крылья-уши, двоякоизогнутая улыбка S.
первый раз заметил его кадык.
низкому лету, по спущенным вниз черным хоботам наблюдательных труб -- я
узнал аппараты Хранителей. Но их было не два и не три, как обычно, а от
десяти до двенадцати (к сожалению, должен ограничиться приблизительной
цифрой).
такого, какой заболеет еще только завтра, послезавтра, через неделю.
Профилактика, да!
через плечо мне:
Что он этим хотел сказать?
-- голубые купола, кубы из стеклянного льда -- свинцовеют, набухают...
мне кажется, полезных (для вас, читатели) мыслей о великом Дне Единогласия
-- этот день уже близок. И увидел: не могу сейчас писать. Все время
вслушиваюсь, как ветер хлопает темными крыльями о стекло стен, все время
оглядываюсь, жду. Чего? Не знаю. И когда в комнате у меня появились знакомые
коричневато-розовые жабры -- я был очень рад, говорю чистосердечно. Она
села, целомудренно оправила запавшую между колен складку юнифы, быстро
обклеила всего меня улыбками -- по кусочку на каждую из моих трещин, -- и я
почувствовал себя приятно, крепко связанным.
Детско-воспитательном Заводе) -- и на стене карикатура. Да, да, уверяю вас!
Они изобразили меня в каком-то рыбьем виде. Быть может, я и на самом деле...
ясно, что ничего похожего на жабры нет, и у меня о жабрах -- это было
совершенно неуместно).
Я, конечно, вызвала Хранителей. Я очень люблю детей, и я считаю, что самая
трудная и высокая любовь -- это жестокость -- вы понимаете?
ей отрывок из своей 20-й записи, начиная отсюда: "Тихонько,
металлически-отчетливо постукивают мысли..."
двигаются ко мне все ближе, и вот в моих руках -- сухие, твердые, даже
слегка покалывающие пальцы.
наизусть. Это нужно не столько вашим венерянам, сколько нам, нам -- сейчас,
завтра, послезавтра.
туда, наружу, где над крышами метался огромный ветер и косые сумеречные
облака -- все ниже...
мое волнение -- косточки ее пальцев дрожали).
только вам это нужно -- в этот день я буду около вас, я оставлю своих детей
из школы на кого-нибудь другого -- и буду с вами, потому что ведь вы,
дорогой, вы -- тоже дитя, и вам нужно...
думать, что я какой-то ребенок -- что я один не могу... Ни за что!( --
сознаюсь: у меня были другие планы относительно этого дня).
упрямый мальчик!" Потом села. Глаза опущены. Руки стыдливо оправляют снова
запавшую между колен складку юнифы -- и теперь о другом:
торопите меня, я еще должна подумать...
большей чести, чем увенчать собою чьи-нибудь вечерние годы.
крыльев. А потом -- стул. Но стул -- не наш, теперешний, а древнего образца,
из дерева. Я перебираю ногами, как лошадь (правая передняя -- и левая
задняя, левая передняя -- и правая задняя), стул подбегает к моей кровати,
влезает на нее -- и я люблю деревянный стул: неудобно, больно.
эту сноболезнь или сделать ее разумной -- может быть, даже полезной.
Запись 22-я.
поднявшись -- вдруг так и остались, застыли, оцепенели. Вот так же жутко и
не естественно было и это -- когда внезапно спуталась, смешалась,
остановилась наша, предписанная Скрижалью, прогулка. Последний раз нечто
подобное, как гласят наши летописи, произошло 119 лет назад, когда в самую
чащу прогулки, со свистом и дымом свалился с неба метеорит.
ассирийских памятниках: тысяча голов -- две слитных, интегральных ноги, две
интегральных, в размахе, руки. В конце проспекта -- там, где грозно гудела
аккумулирующая башня -- навстречу нам четырехугольник: по бокам, впереди,
сзади -- стража; в середине трое, на юнифах этих людей -- уже нет золотых
нумеров -- и все до жути ясно.
облаков и, сплевывая вниз секунды, равнодушно ждало. И вот ровно в 13 часов
и 6 минут -- в четырехугольнике произошло замешательство. Все это было
совсем близко от меня, мне видны были мельчайшие детали, и очень ясно
запомнилась тонкая, длинная шея и на виске -- путаный переплет голубых
жилок, как реки на географической карте маленького неведомого мира, и этот
неведомый мир -- видимо, юноша. Вероятно, он заметил кого-то в наших рядах:
поднялся на цыпочки, вытянул шею, остановился. Один из стражи щелкнул по
нему синеватой искрой электрического кнута; он тонко, по-щенячьи, взвизгнул.
И затем -- четкий щелк, приблизительно каждые 2 секунды -- и взвизг, щелк --
взвизг.
искр, думал: "Все в человеческом обществе безгранично совершенствуется -- и
должно совершенствоваться. Каким безобразным орудием был древний кнут -- и
сколько красоты..."
оторвалась тонкая, упруго-гибкая женская фигура с криком: "Довольно! Не
сметь!" -- бросилась прямо туда, в четырехугольник. Это было -- как метеор
-- 119 лет назад: вся прогулка застыла, и наши ряды -- серые гребни
скованных внезапным морозом волн.





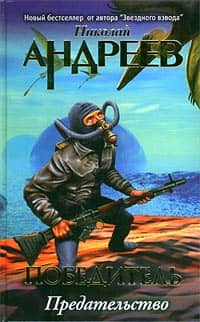
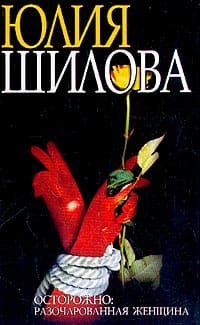 Шилова Юлия
Шилова Юлия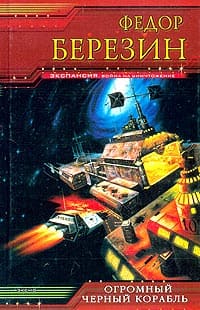 Березин Федор
Березин Федор Трубников Александр
Трубников Александр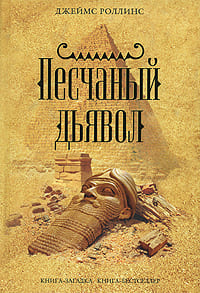 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс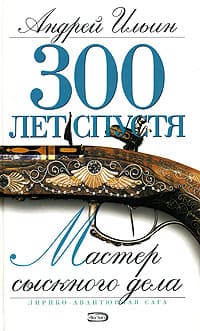 Ильин Андрей
Ильин Андрей Флинт Эрик
Флинт Эрик