Григорий КАНОВИЧ
Продавец снов
Я учился с ним в одном классе, даже сидел за одной партой у окна, за которым
своими шершавыми, загадочными листьями шелестел старый каштан, высаженный
первым директором Виленской мужской гимназии ясновельможным паном Войцехом
Пионтковским в память о павших героях польского восстания 1831 года.
Вельможным был и сам каштан, не похожий на другие, шумевшие по соседству
деревья, чахнувшие от старости и городской пыли, устало и усердно оседавшей
на ветках. Под его взъерошенной кроной, как под сводом костела, с утра до
вечера творили свои незатейливые молитвы полуголодные послевоенные птицы,
привлекавшие внимание учеников больше, чем сухие и каверзные уравнения на
доске или рассказы о достославных подвигах Александра Невского, наголову
разбившего врагов на Чудском озере.
Иногда, особенно по весне, на подоконник боязливо садились отливающие
глазурью грачи и молодые белобокие сороки, выпорхнувшие, словно крестовые
дамы, из какой-нибудь карточной колоды, а в распахнутое окно самонадеянно
залетали бездумные люмпены-воробьи, которые, шныряя под партами, выискивали
оброненные на пол хлебные крошки и, долбя непривередливыми клювиками
нечаянное подаяние, в радостном, почти самозабвенном испуге принимались за
ниспосланный Богом завтрак. Самые отчаянные из них затягивали, бывало,
нищенскую трапезу дольше, чем полагалось, и, на свою беду, оказывались в
огромной клетке, оглушаемой дикарскими криками, топотом ног и треском парт.
Не знаю почему, но охота за обезумевшими от страха и безысходности птахами
превращалась в негаданный и греховный праздник, отличный от чинного,
аляповатого Первомая и царственно-холодного Великого Октября. Каждый из нас,
даже тот, кто слыл тихоней или примерным пятерочником, считал для себя чуть
ли не за честь принять посильное участие в этой горячившей кровь погоне, в
этой захватывающей, головокружительной ловле, которая умеряла каждодневную
скуку, навеваемую однообразными уроками, и как-то скрашивала привычные
будни, лишенные страсти и неминуемого юношеского безумства.
Казалось, в этом молодецком гиканье, в этом охотничьем улюлюканье не было
ничего, кроме стесняющего грудь запретного желания выплеснуть свою тоску по
жизни, которая не подлежит оценке по пятибалльной системе и не подчиняется
учительской указке, по какому-то смутному, вряд ли до конца осознанному
бунту против наскучившей школярской действительности, тусклой и
неизобретательной, как общешкольная стенгазета с вытатуированными на самом
верху серпом и молотом.
В классе из-за пернатых, залетевших в поисках корма, не очень-то
волновались: как бы долго птицы ни бились о побеленные к началу учебного
года стены, без всякой фантазии украшенные одними и теми же казенными
портретами бессмертного Ленина и его не менее бессмертного соратника -
товарища Сталина, все равно вот-вот откроется дверь и в класс, как в
святилище, войдет наш классный руководитель - учитель математики Вульф
Абелевич Абрамский, поправит на горбатом носу старомодное, эсеровское пенсне
и тихим голосом, каким, наверное, говорили в древности обожаемые им Пифагор
и Евклид, скажет:
- Сейчас же прекратить безобразие! Только человеческой мысли не возбраняется
летать повсюду. Для нее и узилище - небеса. Но не для птицы...- И, переведя
взгляд на нашу парту, обратится к своему любимцу Натану Идельсону, моему
однокашнику и соседу, смирно сидевшему у самого окна: - Идельсон!...
Выпустите, пожалуйста, пленницу на волю! Кто лишает свободы других, тот сам
когда-нибудь будет наказан кандалами...
Натан - лучший математик в классе, гений, как его называл Вульф Абелевич,
никогда не смел ослушаться своего учителя и заступника. Он открывал окно,
птицы стайкой выпархивали из класса, скрывались в ветвях каштана, и вскоре
до нашего слуха доносился их счастливый и беззаботный щебет. В классе
наступала тишина, какая бывала только на уроках Абрамского, строгость
которого была равновелика его пронзительному, как солнечный луч, уму,- в
Древней Греции он был бы не наставником двадцати двух увальней и
башибузуков, а вторым Пифагором или Евклидом. В Древней Греции он бы не
дрейфил перед нашим директором Михаилом Алексеевичем Антоненковым, который
если и мог чем-то похвастать, так это не тихим умом, а орденами и медалями
на широкой груди, сверкавшими, как елочная гирлянда. Да и как было бедняге
Абрамскому не дрейфить, как не бояться, если историк Михаил Алексеевич,
знавший все, шла ли речь о том, что происходило в Российской империи в
прошлом - о сражении на Чудском озере, о тайных сговорах в барских
опочивальнях, или о том, что произойдет на Руси в обозримые двадцать -
тридцать лет, не раз на педсовете не то шутя, не то на полном серьезе
поддевал Абрамского:
- Да вы, Вульф Абелевич, в этом своем пенсне, ну, прямо-таки вылитый Лев
Давидович Троцкий... Не родственники ли вы часом?..
- Нет,- с достоинством отвечал Абрамский.- Еврей, позвольте вам,
многоуважаемый Михаил Алексеевич, заметить, как правило, всегда похож не на
того, на кого надо.
С тех пор к Вульфу Абелевичу и прилепилось небезопасное прозвище - Троцкий.
Тайком его так называли даже коллеги.
Как и Идельсон, Вульф Абелевич родился в Вильнюсе. Не успев эвакуироваться,
он попал на два года в гетто, где на Мясницкой улице учительствовал в
подпольной школе - преподавал ту же, с таким трудом дававшуюся мне
математику. Он и там, невзирая ни на какие передряги, отличался той же
дотошностью и педантичностью, был таким же брюзгой - вечно на кого-то
ворчал, никому не ставил отметки выше четверки, безжалостно карал за
шпаргалки, выгонял за любую подсказку из класса. Вульф Абелевич ревностно
оберегал свой холостяцкий статус, был закоренелым вегетарианцем - даже за
колючей проволокой он не изменял своим привычкам: с женщинами не водился,
хотя доброхоты и пытались многажды найти ему подходящую невесту, ел, как
ребенок, только кашицы и овощи. Абрамский был невероятно худ, но худоба
придавала ему какую-то свежесть и моложавость. Зимой сорок третьего года
школу в гетто закрыли, кого-то из учителей увезли навеки в Понары, а кого-то
отправили в Майданек и Дахау. Вульф Абелевич и в Майданеке каким-то образом
ухитрился набрать небольшую группу подростков, оставшихся в этом аду в
живых, и при свете лампочки-доходяги истово, с мстительным наслаждением
принялся обучать их математическим премудростям. Все учебники долговязый
Абрамский знал назубок, легко сыпал примерами, чертил угольком на задней
стенке шкафа, принесенного в барак со свалки, замысловатые уравнения,
формулы, дроби, недаром же он, сын мебельного фабриканта, окончил с отличием
в начале тридцатых годов университет не то в Базеле, не то в Сорбонне. Там,
в Майданеке, он и познакомился с сиротой Натаном Идельсоном, которому, как и
его измученным голодом и болезнями сверстникам, прикидывавшимся взрослыми,
чтобы выжить, поначалу не было никакого дела ни до Пифагора, ни до Евклида,
ни до Лобачевского.
- У нас не было ни бумаги, ни карандашей. Но ему они и не нужны были. Он
прекрасно обходился без них и того же требовал от нас. Сперва мы складывали
и делили свои лагерные номера на руке, потом по частям возводили их в
квадрат и в куб. Вульф Абелевич, бывало, поднесет к каждому малахольный
фитилек, агонизировавший под треснутым колпачком лампочки, вперит взгляд в
номер, зашевелит губами и ждет ответа. Временами казалось, что он
ненормальный... шарлатан какой-то... что придумал эту дурацкую игру только
ради того, чтобы не думать о смерти, не отчаяться, чтобы, как он говорил, не
оставить пустыми свои ульи - наши стриженые, запаршивевшие головы, ибо,
когда умирает мысль, нет никакого смысла жить, даже если жизнь еще длится и
длится. До сих пор помню его усмешку. "Умножение шестизначных чисел помогает
выводить вшей и избавиться от парши! Умножайте, умножайте!" - передразнивая
Абрамского через сорок лет в маленьком кафе над Сеной, неспешно рассказывал
мне о тех лагерных уроках мой однокашник Натан Идельсон, профессор
прославленной Сорбонны.
Он глотнул из бокала искрившееся в вечерних сумерках шампанское, откинулся
на спинку плетеного стула и, близоруко щурясь, с какой-то щемящей тоской, не
вязавшейся с веселым гомоном завсегдатаев в миниатюрном, почти семейном
кафе, продолжал:
- Оттуда... из Майданека и мой французский... Вульф Абелевич на нем говорил
как истый парижанин. Два часа в день мы занимались математикой и один час -
французским. Вокруг неубранные трупы, голод, болезни, смерть, а он как будто
ничего не замечает - печется о нашем произношении, о прононсе, заставляет
галантно раскланиваться друг с другом и говорить о красоте, любви, об
устрицах, креветках, шампиньонах, винах... И не смей перечить. Мозг
должен-де работать с полной нагрузкой назло всему... Это-де единственное,
что мы можем противопоставить насилию, единственное, что сами в этих
условиях в состоянии защитить и чем в конечном итоге можем спасти себя от
позора и погибели. Четверо не выдержали - сбежали... Трое умерли от
истощения. И трое, в том числе и я, выжили... Выжили благодаря его урокам...
То было учительство не на грани смерти, а за гранью. Если бы не он, я,
наверно, никогда бы не стал тем, кем стал. Никогда... И во Францию не поехал
бы... Я бы никуда не поехал... Торчал бы где-нибудь, прости за
откровенность, в Литве, как ты... лебезил бы перед каждым городовым и
урядником...
Как и подобает гостю с другой, давным-давно забытой Идельсоном планеты, я
слушал его не перебивая, внимательно, может, даже подобострастно; я не
спрашивал его, что же вынудило их после войны вернуться в "урядницкую
Литву", знал, что и этому рассказу придет черед; Идельсон же подолгу молчал,
поглаживая рукой с выжженным номером, легко различимым в щедром неоновом
свете, заливавшем все кафе, свою благородную, отороченную седоватым мехом
лысину, и отрешенно, как будто никого рядом с ним не было, смотрел в окно,
за которым на пропахшем шампанским и речной прохладой ветру шелестел своими
загадочными листьями старый каштан с темной взъерошенной кроной, точно такой
же, как в сорок восьмом в разоренном Вильнюсе, только без суматошливой






 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий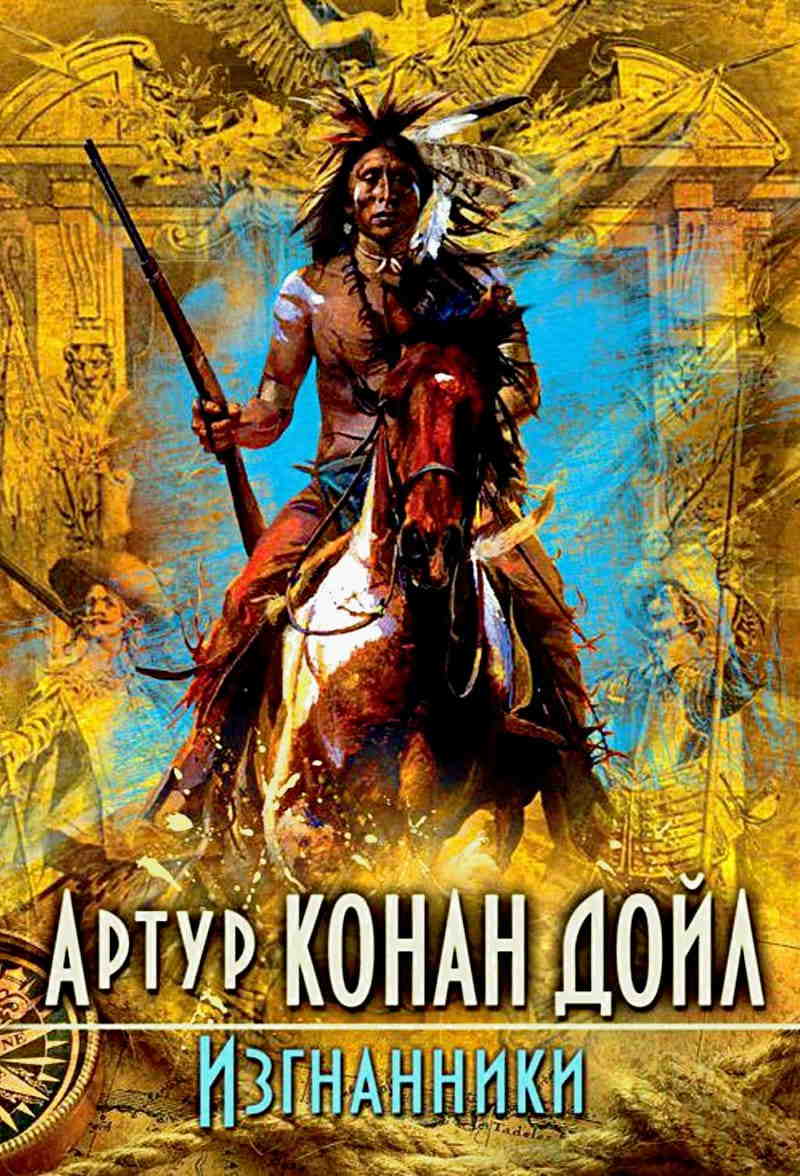 Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур Перумов Ник
Перумов Ник Свержин Владимир
Свержин Владимир Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Сертаков Виталий
Сертаков Виталий