и это сделано, господин землемер, то сделано самое необходимое, и остается
только смириться и ждать".
опиралась на левую руку, лежавшую на спинке кровати, потом соскользнула
вовсе и свесилась вниз, опоры одной руки уже не хватало, но он невольно
нашел себе другую опору, опершись правой рукой на одеяло, причем случайно
схватился за выступающую из-под одеяла ногу Бюр-геля. Бюргель только
взглянул, но, несмотря на неудобство, ноги не отнял.
посмотрел на стену. "Нет ли здесь землемера?" -- раздался вопрос. "Да", --
сказал Бюргель, выдернул свою ногу из-под К. и вдруг потянулся, живо и
задорно, как маленький мальчик. "Так пусть, наконец, идет сюда!" -- крикнули
за стеной. На Бюргеля и на то, что К. мог еще быть нужным ему, никакого
внимания не обратили. "Это Эрлангер, -- сказал Бюргель шепотом; то, что
Эрлангер оказался в соседней комнате, его как будто совсем не удивило. --
Идите к нему сейчас же, он уже сердится, постарайтесь его умаслить. Сон у
него крепкий, но мы все же слишком громко разговаривали: никак не совладаешь
с собой, со своим голосом, когда говоришь о некоторых вещах. Ну, идите же,
вы как будто никак не можете проснуться. Идите же, чего вам тут еще надо?
Нет, не оправдывайтесь тем, что вам хочется спать. К чему это? Сил
человеческих хватает до известного предела; кто виноват, что именно этот
предел играет решающую роль? Нет, тут никто не виноват. Так жизнь сама себя
поправляет по ходу действия, так сохраняется равновесие. И это отличное,
просто трудно себе представить, насколько отличное устройство, хотя, с
другой стороны, крайне неутешительное. Ну, идите же, не понимаю, почему вы
так на меня уставились? Если вы будете медлить, Эрлангер на меня напустится,
а я бы очень хотел избежать этого. Идите же, кто знает, что вас там ждет,
тут все возможно. Правда, бывают возможности, в каком-то отношении слишком
широкие, их даже использовать трудно, есть такие дела, которые рушатся сами
по себе, а не от чего-то другого. Да, все это весьма удивительно.
начнется шум. Хоть бы вы ушли поскорее!"
мучительно хотелось еще поспать и все тело так болело от неудобного
положения, что он никак не мог решиться встать и, держась за голову, тупо
смотрел на свои колени. Даже то, что Бюргель несколько раз попрощался с ним,
не могло его заставить уйти, и только сознание полнейшей бессмысленности
пребывания в этой комнате медленно вынудило его встать. Неописуемо жалкой
показалась ему эта комната. Стала ли она такой или всегда была, он
определить не мог. Тут ему никогда не заснуть как следует. И эта мысль
оказалась решающей: улыбнувшись про себя, он поднялся, и, опираясь на все,
что попадалось под руку -- на кровать, стенку, дверь, -- он вышел, даже не
кивнув Бюргелю, словно давно уже попрощался с ним.
--------
Эрлангера, если бы Эрлангер, стоя в открытых дверях, не поманил бы его к
себе. Поманил коротко, одним движением указательного пальца. Эрлангер уже
совсем собрался уходить, на нем была черная шуба с тесным, наглухо
застегнутым воротником. Слуга, держа наготове шапку, как раз подавал ему
перчатки. "Вам давно следовало бы явиться", -- сказал Эрлангер. К. хотел
было извиниться, но Эрлангер, устало прикрыв глаза, показал, что это лишнее.
"Дело в следующем, -- сказал он. -- В буфете еще недавно прислуживала некая
Фрида, я знаю ее только по имени, с ней лично незнаком, да она меня и не
интересует. Эта самая Фрида иногда подавала пиво Кламму. Теперь там как
будто прислуживает другая девушка. Разумеется, эта замена, вероятно,
никакого значения ни для кого не имеет, а уж для Кламма и подавно. Но чем
ответственнее работа -- а у Кламма работа, конечно, наиболее ответственная,
-- тем меньше сил остается для сопротивления внешним обстоятельствам,
вследствие чего самое незначительное нарушение самых незначительных привычек
может серьезно помешать делу: малейшая перестановка на письменном столе,
устранение какого-нибудь давнишнего пятна, -- все это может очень помешать,
и тем более новая служанка. Разумеется, все это способно стать помехой для
кого-нибудь другого, но только не для Кламма, об этом и речи быть не может.
Однако мы обязаны настолько охранять покой Кламма, что даже те помехи,
которые для него таковыми не являются -- да и вообще для него, вероятно,
никаких помех не существует, -- мы должны устранять, если только нам
покажется, что они могли бы помешать. Не ради него, не ради его работы
устраняем мы эти помехи, но исключительно ради нас самих, ради очистки нашей
совести, ради нашего покоя. А потому эта самая Фрида должна немедленно
вернуться в буфет, хотя вполне возможно, что как раз возвращение и создаст
помехи, что ж, тогда мы ее опять отошлем, но пока что она должна вернуться.
Вы, как мне сказали, живете с ней, так что немедленно обеспечьте ее
возвращение. Само собой разумеется, что из-за ваших личных чувств тут
никаких поблажек быть не может, а потому я не стану вдаваться ни в какие
дальнейшие рассуждения. Я уж и так сделаю для вас больше, чем надо, если
скажу, что при случае для вашей карьеры в дальнейшем будет весьма полезно,
если вы оправдаете доверие в этом небольшом дельце. Это все, что я имел вам
сообщить". Он кивнул на прощание, надел поданную слугой меховую шапку и
пошел в сопровождении слуги по коридору быстрым шагом, но слегка
прихрамывая.
эта легкость не радовала К. И не только оттого, что распоряжение, касавшееся
Фриды, походило на приказ и вместе с тем звучало издевкой над К., а главным
образом оттого, что К. увидел в нем полную бесполезность всех своих
стараний. Помимо него делались распоряжения, и благоприятные и
неблагоприятные, и даже в самых благоприятных таилась неблагоприятная
сердцевина, во всяком случае, все шло мимо него, и сам он находился на
слишком низкой ступени, чтобы вмешаться в дело, заставить других замолкнуть,
а себя услышать. Что делать, если Эрлангер от тебя отмахивается, а если бы и
не отмахнулся -- что ты ему скажешь? Правда, К. сознавал, что его усталость
повредила ему сегодня больше, чем все неблагоприятные обстоятельства, но
тогда почему же он, который так верил, что может положиться на свою
физическую силу, а без этой убежденности вообще не пустился бы в путь, --
почему же он не мог перенести несколько скверных ночей и одну бессонную,
почему он так неодолимо уставал именно здесь, где никто или, вернее, где все
непрестанно чувствовали усталость, которая не только не мешала работе, а,
наоборот, способствовала ей? Значит, напрашивался вывод, что их усталость
была совсем иного рода, чем усталость К. Очевидно, тут усталость приходила
после радостной работы, и то, что внешне казалось усталостью, было, в
сущности, нерушимым покоем, нерушимым миром. Когда к середине дня немножко
устаешь, это неизбежно, естественное следствие утра. "Видно, у здешних
господ всегда полдень", -- сказал себе К.
стороны коридора, началось большое оживление. Шумные голоса в комнатах
звучали как-то особенно радостно. То они походили на восторженные крики
ребят, собирающихся на загородную прогулку, то на пробуждение в птичнике, на
радость слияния с наступающим утром. Кто-то из господ даже закукарекал,
подражая петуху. И хотя в коридоре еще было пусто, но двери уже ожили: то
одна, то другая приоткрывалась и сразу захлопывалась, весь коридор жужжал от
этих открываний и захлопываний. К. то и дело видел, как в щелку над
недостающей до потолка стенкой высовывались по-утреннему растрепанные головы
и сразу исчезали. Издалека показался служитель, он вез маленькую тележку,
нагруженную документами. Второй служитель шел рядом со списком в руках и,
очевидно, сравнивал номер комнаты с номером в этом списке. У большинства
дверей тележка останавливалась, дверь обычно открывалась, и соответствующие
документы передавались в комнату -- иногда это был только один листочек, и
тогда начиналось препирательство между комнатой и коридором: должно быть,
упрекали слугу. Если же дверь оставалась закрытой, то документы аккуратной
стопкой складывались на полу. Но К. показалось, что при этом открывание и
закрывание других дверей не только не прекращалось, но еще более
усиливалось, даже там, куда все документы уже были поданы. Может быть,
оттуда с жадностью смотрели на лежащие у дверей и непонятно почему еще не
взятые документы, не понимая, отчего человек, которому стоит только открыть
дверь и взять свои бумаги, этого не делает, возможно даже, что, если
документы остаются невзятыми, их потом распределяют между другими господами
и те, непрестанно выглядывая из своих дверей, просто хотят убедиться, лежат
ли бумаги все еще на полу и есть ли надежда заполучить их для себя. При этом
оставленные на полу документы обычно представляли собой особенно толстые
связки, и К. подумал, что их оставляли у дверей на время из некоторого
хвастовства или злорадства, а может быть, и из вполне оправданной, законной
гордости, чтобы подзадорить своих коллег. Это его предположение
подтверждалось тем, что вдруг именно в ту минуту, когда он отвлекался,
какой-нибудь мешок, уже достаточно долго стоявший на виду, вдруг торопливо
втаскивали в комнату и дверь в нее плотно закрывалась, причем и соседние
двери как бы успокаивались, словно разочарованные или удовлетворенные тем,
что наконец устранен предмет, вызывавший непрестанный интерес, хотя потом
двери снова приходили в движение.
даже стало как-то уютно среди всей этой суеты, он оглядывался по сторонам и
шел -- правда, на почтительном расстоянии -- за служителями, и, хоть те все
чаще оборачивались и, поджав губы, исподлобья строго посматривали на него,
он все же следил за распределением документов. А дело шло чем дальше, тем
запутаннее: то списки не совсем совпадали, то служитель не мог сразу
разобраться в документах, то господа чиновники возражали по какому-нибудь
поводу; во всяком случае, некоторые документы иногда приходилось



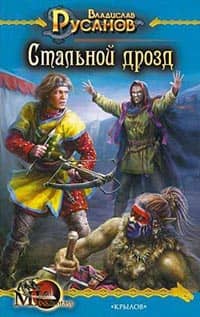
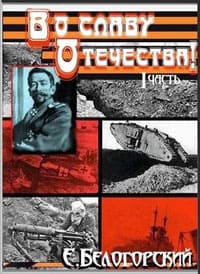

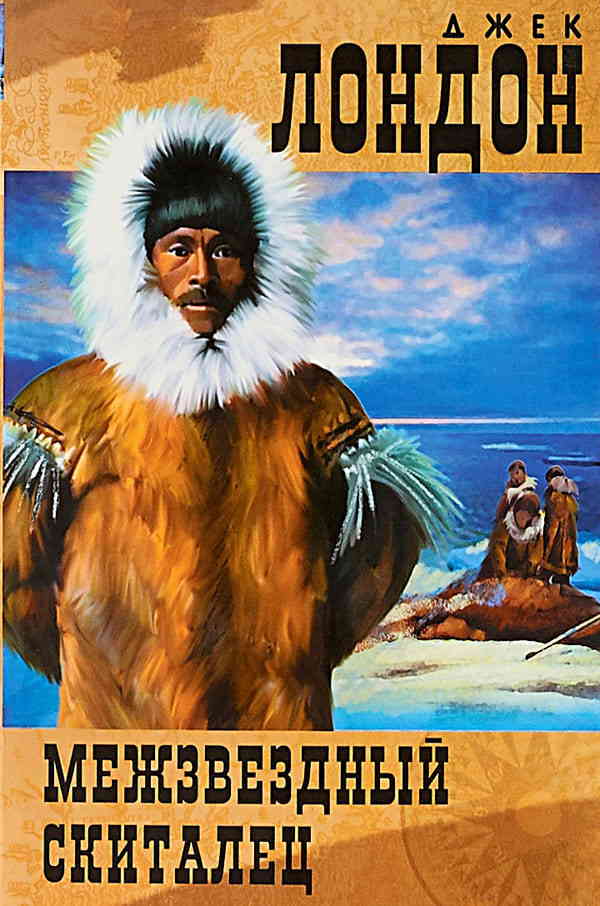 Лондон Джек
Лондон Джек Перумов Ник
Перумов Ник Акунин Борис
Акунин Борис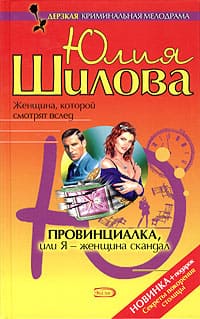 Шилова Юлия
Шилова Юлия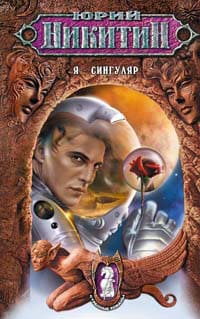 Никитин Юрий
Никитин Юрий Березин Федор
Березин Федор