Джек Керуак.
Бродяги Дхармы
1
Лос-Анджелесе, я забрался в "гондолу" - открытый полувагон и лег, подложив
под голову рюкзак и закинув ногу на ногу, созерцать облака, а поезд катился
на север в сторону Санта-Барбары. Поезд был местный, и я собирался провести
ночь на пляже в Санта-Барбаре, а потом поймать либо наутро следующий местный
до Сан-Луис-Обиспо, либо в семь вечера товарняк первого класса до самого
Сан-Франциско. Где-то возле Камарильо, где сходил с ума и лечился Чарли
Паркер, мы ушли на боковой путь, чтобы пропустить другой поезд; тут в мою
гондолу забрался щуплый старый бродяжка и, кажется, удивился, найдя там
меня. Он молча улегся в противоположном конце гондолы, лицом ко мне,
подложив под голову свою жалкую котомку. С грохотом проломился по главному
пути товарный на восток, дали свисток - сигнал к отправлению, и мы
тронулись; стало холодно, ветер с моря понес клочья тумана на теплые долины
побережья. После безуспешных попыток согреться, свернувшись и укутавшись на
студеном железном полу, мы с бродяжкой, каждый в своем конце вагона,
вскочили и принялись топать, прыгать и махать руками. Вскоре, в каком-то
пристанционном городишке, наш поезд опять ушел на боковой путь, и я понял,
что без пузыря токайского дальше сквозь холод и туман ехать нельзя.
вина, купил еще хлеба и конфет. Бегом вернулся я к своему товарняку,
которому оставалось еще минут пятнадцать до отправления. Было довольно тепло
и солнечно, но день клонился к вечеру, скоро похолодает. Бродяжка сидел в
своем углу, скрестив ноги, над скудной трапезой, состоящей из банки сардин.
Я пожалел его, подошел и сказал:
сардинкам?
голоском, боясь или не желая обнаружиться. Сыр я купил три дня назад в
Мехико, перед длинным дешевым автобусным рейсом через Закатекас - Дюранго -
Чиуауа, две тысячи долгих миль до границы в Эль-Пасо. Он поел хлеба с сыром
и выпил вина, с наслаждением и благодарностью. Я был рад. Я вспомнил строку
из Алмазной Сутры: "Твори благо, не думая о благотворительности, ибо
благотворительность, в конце концов, всего лишь слово". В те дни я был
убежденным буддистом и ревностно относился к тому, что считал религиозным
служением. С тех пор я стал лицемернее в своей болтовне, циничнее, вообще
устал. Ибо стар стал и равнодушен... Но тогда я искренне верил в
благотворительность, доброту, смирение, усердие, спокойное равновесие,
мудрость и экстаз, и считал себя древним бхикку в современной одежде,
странствующим по свету (обычно по огромной треугольной арке Нью-Йорк -
Мехико - Сан-Франциско), дабы повернуть колесо Истинного Смысла, или Дхармы,
и заслужить себе будущее Будды (Бодрствующего) и героя в Раю. Я еще не
встретил Джефи Райдера, это предстояло мне на следующей неделе, и ничего не
слышал о бродягах Дхармы, хотя сам я был тогда типичным бродягой Дхармы и
считал себя религиозным странником. Старый бродяжка в гондоле подкрепил мою
веру: согрелся от вина, разговорился и наконец извлек клочок бумаги с
молитвой Святой Терезы, обещающей после смерти вернуться на землю с неба
дождем из роз, навсегда, для всех живых существ.
назад. Я всегда ношу ее в собой.
насчет Святой Терезы, религии и собственной жизни. Бывают такие маленькие,
тихие бродяжки, на которых никто особенно не обращает внимания, даже на
скид-роу, в дешевом районе бедняков и бродяг, не говоря уже о главной улице.
Погонится за ним полицейский - он припустит и исчезнет; и железнодорожная
охрана в большом городе вряд ли заметит, как он, маленький, прячется в траве
и, хоронясь в тени, вскакивает в товарный вагон. Когда я сказал ему, что
следующей ночью собираюсь пересесть на "Зиппер", первоклассный товарняк, он
сказал:
Лос-Анджелесе и до утра тебя не видно, пока не соскочишь в Сан-Франциско,
скорость будь здоров.
мимо Серфа.
полтора часа мы провели, изо всех сил стараясь не замерзнуть. Я то
сворачивался калачиком и медитировал на тепле, истинном тепле Бога, пытаясь
победить холод, то вскакивал, махал руками и ногами, пел. Бродяжка был
терпеливее, он просто лежал, погруженный в горестные раздумья. Зубы мои
стучали, губы посинели. Когда стемнело, мы с облегчением увидели знакомый
контур гор Санта-Барбары; скоро остановимся и согреемся в теплой звездной
ночи близ путей.
Святой Терезы и, прихватив свои одеяла, пошел ночевать на пляж, к подножию
скалы, подальше от дороги, чтобы полиция не вычислила и не увезла меня
отсюда. Я жарил сосиски на свежесрезанных заостренных палочках над углями
большого костра, там же разогревал в жарких красных ямках банку бобов и
банку макарон с сыром, пил свое давешнее вино и праздновал одну из
чудеснейших ночей моей жизни. Забрел в воду, окунулся, постоял, глядя в
великолепное ночное небо, на вселенную Авалокитешвары, вселенную десяти
чудес, полную тьмы и алмазов, и говорю: "Ну вот, Рэй, осталось совсем
чуть-чуть. Все опять получилось". Красота. В одних плавках, босиком,
растрепанному, в красной тьме у костра - петь, прихлебывать винцо,
сплевывать, прыгать, бегать - вот это жизнь. Свобода и одиночество в мягком
песке пляжа, рядом вздыхает море, и теплые девственные фаллопиевы звезды
отражаются, мерцая, в спокойных водах дальнего протока. А если банки так
раскалились, что их голыми руками не возьмешь, тут как нельзя лучше
пригодятся старые железнодорожные рукавицы. Пока еда остывает, я наслаждаюсь
вином и размышлениями. Сижу, скрестив ноги, на песке и думаю о своей жизни.
Вот была жизнь, ну и что? "Что ждет меня впереди?"
скусывая их прямо с палочки, хрум-хрум, и углубиться в содержимое двух
вкусных банок при помощи старой походной ложки, выуживая жирные куски
свинины с бобами, или макароны с горячим острым соусом и, может быть,
щепоткой морского песка. "Интересно, - думаю, - сколько песчинок на этом
пляже? Наверно, столько же, сколько звезд на небе!" (хрум-хрум); в таком
случае, "Сколько же было людей, или лучше, сколько было живых существ за эту
меньшую часть безначального времени? У-у, тут уж, наверно, придется
сосчитать все песчинки на этом пляже и на всех звездах небесных, в каждом из
десяти тысяч великих хиликосмов, это, значит, будет сколько же песчинок?
никакая ЭВМ не сосчитает, и счетная машина Берроуза тоже вряд ли, нет,
ребята, я не знаю" (глоток вина) "не знаю, но должно выйти не меньше пары
раз по надцать триллионов секстильонов неизвестное невозможное несчетное
количество роз, которыми Святая Тереза и тот славный старичок осыпают сейчас
твою голову, а также лилий".
посуду, присыпал песочком, побродил вокруг, потом вытер, сложил, убрал
старушку ложку в просоленный рюкзак, завернулся в одеяло и заснул хорошим
заслуженным сном. Среди ночи вдруг - "А?! Где я, что за девчонки играют в
баскетбол вечности в старом доме моей жизни, пожар, горим?" - но это всего
лишь стремительный шорох подбирающегося к изголовью прилива.
во сне я израсходовал на дыхание три куска хлеба... О бедный мозг человека,
о человек, одинокий в песках, и Бог смотрит сверху с внимательной, я бы
сказал, улыбкой... Мне приснился прежний наш дом в Новой Англии, и как мои
котята пытаются пройти со мной тысячи миль через всю Америку, и мама с
котомкой за спиной, и отец, бегущий за неуловимым призрачным поездом, а на
сером рассвете я проснулся опять, увидел рассвет, хмыкнул (потому что засек
мгновенную смену всего горизонта, будто рабочий сцены поспешил вернуть его
на место, чтобы убедить меня в реальности декорации), повернулся на другой
бок и заснул опять. "Все едино", - услышал я свой голос в пустоте, которая
во сне чрезвычайно соблазнительна.
2


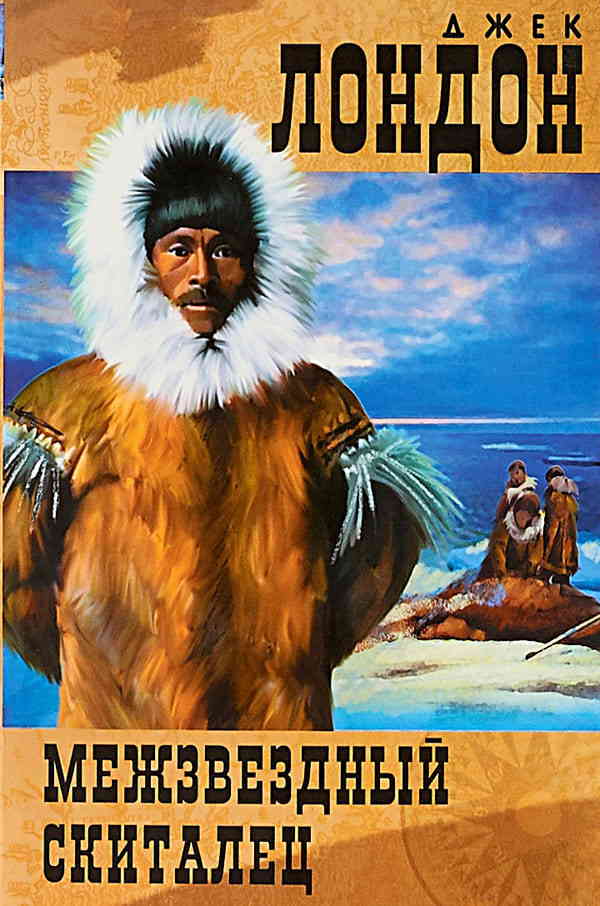

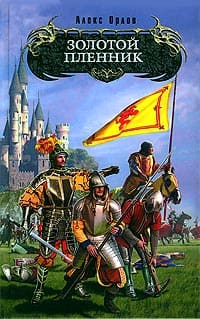

 Андреев Николай
Андреев Николай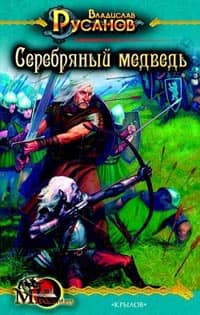 Русанов Владислав
Русанов Владислав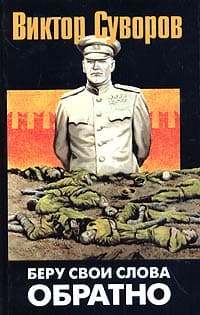 Суворов Виктор
Суворов Виктор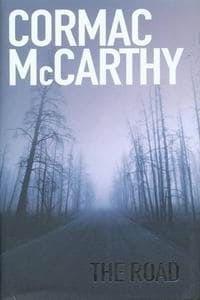 Маккарти Кормак
Маккарти Кормак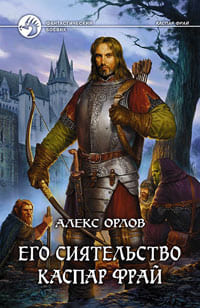 Орлов Алекс
Орлов Алекс Самойлова Елена
Самойлова Елена