больные, полумертвые и падающие, целое живое травяное сообщество, то звонит
под ветром, словно в колокола, то взволнованно встрепенется, все из желтого
вещества, торчащего из земли, и я думал: Вот оно. "Ну-ка, ну-ка," - говорил
я им, и они разворачивались по ветру, мотая умными усиками, пытаясь выразить
идею смятения, заложенную в цветущем воображении влажной земли, породившей
карму корня и стебля... Было отчего-то страшно. Я засыпал, и мне снились
слова: "С этим учением земля подошла к концу", снилась мать, медленно,
торжественно кивающая головой, глаза закрыты. Что мне до утомительных обид и
скучных неправд этого мира, человеческие кости - лишь тщетные, бесполезные
линии, вся вселенная - пустая звездная пыль... "Я бхикку Пустая Крыса!" -
снилось мне.
выброшенность, выключенность, ничегонепроисходимость, вылет, полет, улет,
конец приема, обрыв связи, порванная цепь, нир - звено - вана - звень!
думал я и улыбался, ибо наконец отовсюду сиял для меня ослепительно-белый
свет.
что называется "Самапатти", в переводе с санскрита - трансцендентальное
посещение. Мозг мой отчасти дремал, но физически я полностью бодрствовал,
сидя под деревом с прямой спиною, когда внезапно увидел цветы, розово-алые
миры цветочных стен, среди неслышного "Шшш" безмолвных лесов (достичь
нирваны - все равно что найти тишину), и древнее видение посетило меня, это
был Дипанкара Будда, Будда, никогда не произносивший ни слова, Дипанкара -
громадная снежная пирамида с кустистыми черными бровями, как у Джона
Л.Льюиса, и ужасным взглядом, и все это на древнем заснеженном поле ("Новое
поле!" - как восклицала черная проповедница), так что волосы зашевелились на
моей голове. Помню странный магический последний крик, разбуженный во мне
тем видением: "Колиалколор!" Видение было свободно от какого бы то ни было
ощущения меня: чистая безындивидуальность, бурная деятельность дикого эфира,
без каких-либо ложных обоснований... свободная от усилий, свободная от
ошибок. "Все правильно, - думал я. - Форма есть пустота, и пустота есть
форма, и мы здесь навсегда в той или иной форме, которая пуста. Мертвые
знают этот глубокий неслышный шорох Чистой Страны Бодрствования".
провозглашая свою простую и великую истину. Потом я сказал: "Рюкзак у меня
собран, весна на дворе, пора отправляться на юго-запад, где сухие, длинные
пустынные земли Техаса и Чиуауа, развеселые улицы ночного Мехико, музыка
льется из открытых дверей, девчонки, вино, трава, сумасшедшие шляпы, вива!
Не все ли равно? Как муравьи от нечего делать роют целыми днями, так и я от
нечего делать стану делать что захочу, и буду добрым, и не поддамся влиянию
воображаемых суждений, и буду молиться о свете". Сидя в беседке Будды, в
"колиалколоре" розовых, алых, белых цветочных стен, в волшебном птичнике,
где птицы признали мой бодрствующий дух странными сладкими криками
(неведомый жаворонок), в эфирном благовонии, таинственно древнем, в
благословенном безмолвии буддийских полей, я увидел свою жизнь как огромный
светящийся чистый лист, и я мог делать все, что захочу.
чудесные видения сообщили мне истинную силу. Пять дней мучили мою матушку
кашель и насморк, наконец разболелось горло, да так, что кашлять стало
больно, и я начал бояться за нее. Я решил впасть в глубокий транс и
загипнотизировать самого себя, постоянно повторяя: "Все пусто и бодрствует",
дабы найти причину маминой болезни и способ излечения. Тут же перед
закрытыми глазами моими явилось видение: бутылка из-под бренди, которая
оказалась лекарством - согревающим растиранием, а сверху, точно в кино,
постепенно замаячила четкая картинка: белые цветочки, круглые, с маленькими
лепестками. Я немедленно поднялся, дело было в полночь, мама кашляла в
постели, взял несколько ваз с цветами, собранными сестрой неделю назад, и
вынес на улицу. Потом нашел в аптечке согревающее растирание и велел матери
натереть им шею. На другой же день кашля как не бывало. Позже, когда я уже
отбыл автостопом на запад, знакомая медсестра, услышав эту историю, сказала:
"Да, похоже, что это аллергия на цветы". Во время этого видения и
последующих действий я четко осознавал, что люди заболевают, используя
физические возможности наказать самих себя, благодаря саморегулирующейся
природе - от Бога, или от Будды, или от Аллаха, называй Бога как угодно, так
что все получается автоматически. Это было первое и последнее сотворенное
мною "чудо", так как я боялся развить в себе чрезмерный суетный интерес к
подобным вещам и, кроме того, несколько опасался ответственности.
обратили на это особого внимания, да и сам я, впрочем, тоже. И правильно. Я
был теперь невероятно богат, супер-мириад-триллионер трансцендентальною
милостью Самапатти, благодаря хорошей скромной карме, а может быть, за то,
что сжалился над собакой и простил людей. Но я знал, что теперь я наследую
блаженство, и что последний страшный грех - это добродетельность.
the blues make you bad", как поет Фрэнк Синатра. В последнюю лесную ночь,
накануне выхода на трассу, я услышал слово "звездность", как-то соотносимое
с тем, что вещи созданы не чтобы исчезнуть, а чтобы бодрствовать в
величайшей чистоте своей истинности и звездности. Я понял, что делать
нечего, ибо ничто никогда не происходило и не произойдет, все вещи - пустой
свет. Итак, в полном вооружении, с рюкзаком, я отправился в путь, поцеловав
на прощанье матушку. Пять долларов отдала она за починку моих старых ботинок
- к ним приделали новые резиновые подошвы, толстые, рифленые, так что я был
готов к летней работе в горах. Наш старый знакомый из деревенского
магазинчика, Бадди Том, сам по по себе замечательный тип, отвез меня на
шоссе 64, мы помахали друг другу, и начался мой трехтысячемильный стоп
обратно в Калифорнию. На следующее Рождество приеду опять.
22
Калифорния. Шон Монахан дал ему приют в этом деревянном домике за рядом
кипарисов, на крутом травянистом холме, поросшем сосной и эвкалиптом, позади
главного дома, в котором жил сам Шон. Много лет назад старик построил
хижину, чтобы умереть в ней. Она была сработана на совесть. Меня пригласили
туда жить - сколько захочу, бесплатно. Сколько-то лет хижина простояла в
запустении, пока зять Шона, славный молодой плотник Уайти Джонс, не привел
ее в жилой вид: обшил холстом деревянные стены, сложил крепкую печку,
поставил керосиновую лампу - но никогда не жил там, так как работал за
городом. Так что въехал туда Джефи, чтобы завершить учение в добром
одиночестве. Каждому, кто хотел зайти к нему в гости, приходилось
преодолевать крутой подъем. Пол устилали плетеные травяные циновки; он писал
мне: "Сижу, курю трубку, пью чай и слушаю, как ветер хлещет тонкими
эвкалиптовыми плетьми и гудит в кипарисах". Он собирался пробыть там до 15
мая - дата его отплытия в Японию по приглашению американского фонда, где ему
предстояло жить в монастыре и обучаться у мастера. "А пока что, - писал
Джефи, - приезжай разделить со мной жилище отшельника, вино, воскресных
девочек, вкусную еду и тепло очага. Монахан даст заработать - повалим
несколько стволов и будем пилить и рубить их на дрова, обучу тебя
лесорубному делу".
заснеженный Портленд вверх к голубым ледникам, оттуда в северный Вашингтон к
приятелю на ферму в долине Нуксак, где провел неделю в лесной избушке и
полазил по окрестным горам. Такие слова, как "Нуксак" или "Национальный парк
Маунт-Бейкер", отзывались во мне великолепным хрустальным видением: льды,
снега, сосны, дальний Север моей детской мечты... Пока что, однако, я стоял
на жаркой апрельской трассе в Северной Каролине, ожидая первой машины. Очень
скоро подобрал меня студентик и довез до провинциального городка Нэшвилла,
где я полчаса жарился на солнце, пока не застопил молчаливого, но
добродушного морского офицера - до самого Гринвилла, Южная Каролина. После
невероятного покоя всей той зимы и ранней весны, ночевок на веранде и отдыха
в лесах, автостоп давался труднее, чем когда-либо, это был сущий ад. Три
мили прошагал я по Гринвиллу под палящим солнцем, запутавшись в лабиринте
улиц в поисках выхода на трассу, по пути попалось что-то вроде кузницы, где
вкалывали черные потные мужики, все в угольной пыли, волна жара обдала меня,
и я зарыдал: "Опять я в аду!"
Джорджии, сижу отдыхаю на рюкзаке под уличным навесом у старой скобяной
лавки, попиваю винцо. Выпил полпинты, дождь, ночь, стопа нет. Пришлось
останавливать "Грейхаунд". На нем доехал до Гэйнсвилла, там я надеялся
поспать у железнодорожных путей, но до них оказалась еще миля, а на
сортировочной, только я собрался заночевать, появилась местная бригада
стрелочников, и меня заметили; пришлось отступать на пустую площадку возле
путей, но тут крутилась полицейская машина с прожектором (может, им
стрелочники сказали, а может, и нет), так что я плюнул, тем более комары,
вернулся в город и стал ждать машин в ярком свете возле закусочных в центре,
полиция прекрасно меня видела, поэтому не искала и не беспокоилась.
четырехдолларовой комнате, побрился и хорошенько отдохнул. Но опять, опять
это чувство бездомности, незащищенности, совсем как по дороге домой, на
Рождество.
хорошо упакованный рюкзак. Наутро, позавтракав в унылом ресторанчике с
вертящимися на потолке вентиляторами и массой мух, я вышел на знойную
трассу, поймал грузовик до Флауэри Бранч, штат Джорджия, на нескольких
местных машинах пересек Атланту, там в городишке под названием Стоунволл
подобрал меня здоровенный толстый южанин в широкополой шляпе, от него разило
виски, он постоянно травил байки и при этом машина то и дело вылетала на
мягкие обочины, вздымая тучи пыли, так что, не дождавшись места назначения,
я взмолился о пощаде, мол, сойти хочу, есть хочу.






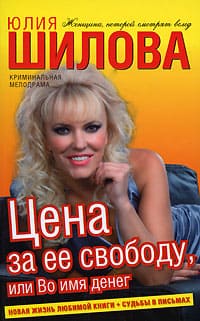 Шилова Юлия
Шилова Юлия Пехов Алексей
Пехов Алексей Зыков Виталий
Зыков Виталий Прозоров Александр
Прозоров Александр Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк