самой тропе, падавшей почти отвесно вниз до уровня моря, - теперь по ней
приходилось карабкаться на четвереньках, хватаясь за выступы и мелкие
деревца, что было весьма изнурительно; наконец выбрались на чудесный луг,
поднялись по склону и вновь увидали белеющий вдали город. "Джек Лондон ходил
по этой тропе," - сообщил Джефи. Дальше - по южному склону красивой горы,
откуда открывался вид на Голден-Гейт, а постепенно и на далекий Окленд.
Вокруг были прекрасные в своем спокойствии дубовые рощи, зелено-золотые в
вечернем свете, и множество горных цветов. На одной лужайке мы видели
олененка - он смотрел на нас с удивлением. Оттуда спустились глубоко вниз, в
секвойный лес, и опять полезли вверх, да так круто, что пот и проклятия
сыпались градом. Таковы уж тропы: то плывешь в шекспировском Арденнском раю,
вот-вот увидишь нимфу или мальчика с флейтой, то вдруг низвергаешься в
адское пекло и должен карабкаться через пыль, зной, крапиву и ядовитый
плющ... совсем как в жизни. "Плохая карма автоматически порождает хорошую, -
сказал Джефи, - хватит ругаться, пошли, скоро будем на холме, немножко
осталось".
так сильно мне еще никогда ничего не хотелось? - Дул холодный сумеречный
ветер, мы спешили, согнувшись под тяжестью рюкзаков, по нескончаемой тропе.
почему, но плитка "Херши" сейчас спасла бы мне жизнь.
света в апельсиновой роще и порции ванильного мороженого?
умоляю, умираю - это плитки "Херши"... с орешками. - Страшно усталые, мы
брели домой и разговаривали, как дети. Я все твердил про свою вожделенную
шоколадку. Мне действительно очень ее хотелось. Конечно, я нуждался в
энергии, в сахаре, и вообще слегка одурел от усталости, но представить себе,
на холодном ветру, как тает во рту шоколад с орехами - о, это было слишком.
проволочную ограду прямо в наш двор; вот и последние двадцать футов по
высокой траве, мимо моей лежанки под розовым кустом, к двери старой доброй
хижины. Печально сидели мы в темноте, разувались, вздыхали. Единственное,
что я мог - это сидеть на пятках, иначе дико болели ноги.
тут все подъели за выходные. Пойду спущусь в магазин, куплю чего-нибудь.
печально зашнуровал свои бутсы и вышел. Все уехали, праздник кончился, когда
выяснилось, что мы с Джефи исчезли. Я затопил печку, лег и даже успел
задремать; внезапно стало совсем темно; вернулся Джефи, зажег керосиновую
лампу и вывалил на стол покупки, в том числе три плитки "Херши" специально
для меня. Никогда в жизни не ел я такой вкусной шоколадки. Кроме того, он
принес мое любимое вино, красный портвейн, специально для меня.
отметить... - Голос его грустно, устало замер. Когда Джефи уставал, а он
частенько загонял себя в походе или на работе, его голос звучал слабо, как
бы издалека. Но вскоре он уже собрался, взбодрился и принялся готовить ужин,
напевая у плиты, как миллионер, топая бутсами по гулкому деревянному полу,
поправляя букеты цветов в глиняных кувшинах, кипятя чайник, перебирая струны
гитары, пытаясь развеселить меня, - я же лежал, грустно уставясь в холщовый
потолок. Последний наш вечер, - чувствовали мы оба.
ни был, - вернись, о тень, и дай оставшимся ключи.
прежние вечера: в древесном океане бушует ветер, а мы знай жуем свою добрую
скромную скорбную пищу, пищу бхикку. - Ты только подумай, Рэй, о том, как
тут все было, на этом холме, тридцать тысячелетий назад, во времена
неандертальцев. Знаешь, в сутрах сказано, что в те времена жил свой Будда,
Дипанкара?
у гудящего костра вокруг своего Будды, который все знает и ничего не
говорит.
Все кончилось. Потом пришла Кристина с обоими детишками на руках, она была
сильная и без труда взбиралась на гору с тяжелой ношей. Той ночью, засыпая
под розовым кустом, я горевал о внезапной холодной тьме, опустившейся на
нашу хижину. Это напоминало мне первые главы из жизнеописания Будды, когда
он решает покинуть дворец, бросает безутешную жену, дитя и несчастного отца
и удаляется на белом коне, чтобы в лесах остричь свои золотые волосы, и
отсылает коня с рыдающим слугою домой, и пускается в скорбное путешествие по
лесу в поисках вечной истины. "Как птицы, что днем сбираются на деревьях, -
писал Ашвагхоша почти через два тысячелетия, - а ночью исчезают вновь -
таковы и разлуки этого мира".
напутственный подарок, но ни денег, ни идей особых не было, так что я взял
бумажку, крохотную, не больше ногтя большого пальца, и аккуратно вывел на
ней печатными буковками: "ДА ПРЕБУДЕТ С ТОБОЙ СОСТРАДАНЬЕ, ГРАНИЛЬЩИК
АЛМАЗОВ"; прощаясь на пристани, я вручил ему эту бумажку, он прочел, положил
в карман, ничего не сказал.
и послала ему записку: "Встретимся на корабле в твоей каюте, и ты получишь
то, чего хотел", или что-то в этом роде, поэтому никто из нас не поднялся на
борт, где Сайке в каюте ожидала его для последней страстной сцены. На борт
был допущен один только Шон - на всякий случай, мало ли что. И вот, когда мы
все помахали и ушли, Джефи и Сайке предположительно занялись любовью, после
чего она разрыдалась и стала требовать, чтобы ее тоже взяли в Японию;
капитан приказал всем провожающим сойти на берег, но она не слушалась;
кончилось тем, что, когда корабль уже отчаливал, Джефи вышел на палубу с
Сайке на руках и скинул ее прямо на пристань, а Шон поймал ее там. И хотя
это не вполне соответствовало идее состраданья, гранильщика алмазов, все
равно это было хорошо, ведь он хотел добраться до того берега и заняться
своим делом. А делом его была Дхарма. И поплыл корабль через Голден-Гейт на
запад, на запад, среди серых, глубоких тихоокеанских зыбей. Плакала Сайке,
плакал Шон, всем было грустно.
ходить с караваном яков из Кашгара в Ланчжоу мимо Лхасы, торговать воздушной
кукурузой, английскими булавками и разноцветными нитками, временами залезая
на Гималаи, а в конце концов поможет достичь просветления Далай-ламе и всей
компании на много миль вокруг, и больше о нем никто ничего не услышит.
31
своей горе.
Кристиной, поблагодарил ее за все и потопал по дороге вниз. Она помахала мне
из заросшего травой двора. "Ну вот, все уехали, теперь будет одиноко,
никаких праздников по выходным". Ей в самом деле все это нравилось. Так и
стояла она во дворе, босиком, с босоногой малышкой Праджной, пока я уходил
по конскому выгону.
поскорее добраться до горы. На шоссе 101 меня моментально подобрал
преподаватель общественных наук, родом из Бостона - он пел на Кейп-Коде, а
вчера на свадьбе брата упал в обморок из-за того, что постился. Он высадил
меня в Кловердейле, где я купил припасов в дорогу: салями, кусок чеддера,
крекеры и кое-что на десерт; все это я аккуратненько завернул в свои
пакетики. С прошлого похода у меня еще оставались орехи с изюмом. "Мне-то
они на пароходе ни к чему," - сказал Джефи. С приступом грусти вспомнил я,
как серьезно относился он всегда к вопросам еды; хотел бы я, чтобы весь мир
так серьезно относился к еде, вместо того чтобы заниматься дурацкими
ракетами, машинами, взрывчаткой, изводить на это деньги, которые можно было
потратить на что-нибудь вкусное, а в результате только снести башку себе и
другим.
реку, где проторчал в серой мгле часа три. Но неожиданно какой-то фермер, с
женой, ребенком и передергивавшим лицо нервным тиком, подбросил меня до
небольшого городка Престона, где один дальнобойщик предложил подвезти меня
до Эврики ("Эврика!" - вскричал я); потом мы разговорились, и он сказал:
"Блин, такая скучища гнать всю ночь напролет одному, мне бы с кем-нибудь
побазарить, хочешь, поехали до Крессент-сити?" Это было не совсем по дороге,
но дальше на север, чем Эврика, и я согласился. Звали его Рэй Бретон, мы
гнали всю ночь, двести восемьдесят миль, под сплошным дождем, он болтал без
умолку, рассказал мне всю свою жизнь, про всех своих братьев, жен, сыновей,
про отца тоже, а в Гумбольдтовском секвойном лесу, в ресторанчике под
названием "Арденнский лес", я великолепно поужинал: жареные креветки, на
десерт огромный клубничный пирог с ванильным мороженым и гигантская порция
кофе, и все это за его счет. Я перевел разговор с его личных проблем на
"последние вопросы", и он сказал: "Да, добрые люди будут на небесах, они
вообще с самого начала на небесах", - по-моему, очень мудро.





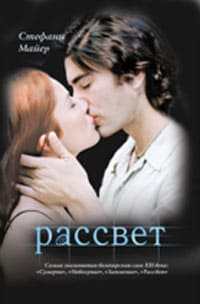
 Громыко Ольга
Громыко Ольга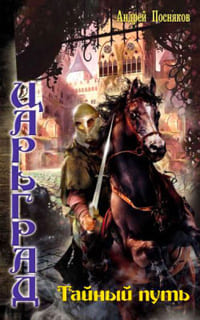 Посняков Андрей
Посняков Андрей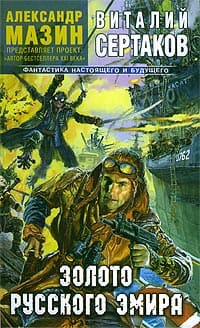 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий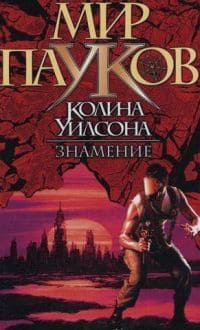 Прозоров Александр
Прозоров Александр Акунин Борис
Акунин Борис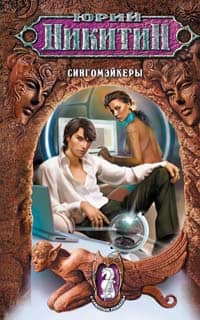 Никитин Юрий
Никитин Юрий