просто не повезло и поэтому я попал не на тот участок жизни, где все хорошо,
правильно, интересно, а на худший, где все так некрасиво, грубо и
примитивно.
Я уже рассказывал, как рисовал угольными палочками на еще не оштукатуренных
стенах будущих квартир женские головки, идеализированные и романтизированные
образы в духе прерафаэлитов... И вот однажды перед началом рабочей смены
мастер Вера, непонятно улыбаясь и отводя в сторону глаза, велела мне идти в
контору строительного участка: вызывает, мол, сам начальник. Я был удивлен.
Мне никогда еще не приходилось встречаться с ним и разговаривать. Это был
еще нестарый человек, лысеющий блондин, высокого роста, в костюме и при
галстуке. Точно так же, как и мастер Вера, отводя и пряча глаза, начальник
спросил у меня: не я ли разрисовал стены? Потупившись, чувствуя, что
отчего-то краснею, ответил, что да, это я рисовал... И тогда уже строго,
почти сердито, начальник приказал: "Все это безобразие немедленно стереть! И
больше чтобы этого не было. Понятно?"
Ничего не понимая, я отправился в корпус и по пути размышлял: может быть,
начальнику не понравились рисунки или по каким-то инструкциям на стенах
стройки запрещено рисовать?.. Но, когда я пришел в корпус, мне все стало
ясно.
Каждый мой настенный рисунок был старательно продолжен кем-то. И этот
"соавтор" работал в стиле примитивизма, но того самого, который прочно
утвердился на стенах общественных сортиров. К хорошеньким головкам моих
"прерафаэлиток" были пририсованы тем же черным углем похабные и уродливые
женские тела. Свесив совершенно чудовищные сиськи и растопырив хилые
рахитичные ножки, эти сортирные мадонны - особенно жуткие в своей
порнографической выразительности из-за того, что лица у них были
прекрасными,- демонстрировали свои утрированные, как на африканских
скульптурах, мрачные половые органы. Таким образом мои старательные рисунки
были изнасилованы и убиты, и тот злодей, чья рука поднялась на подобное
дело, был скрыт в массе невидимого люда, имя которому - легион.
В общежитии строительных рабочих, где я прожил год, красоты тоже было
маловато. Там вечерами после работы, в выходные дни или по праздникам мужики
напивались, и тогда вспыхивали яростные, буйные драки... Помню самый первый
день своего появления в общежитии. Я вселился в комнату о четырех койках уже
к вечеру, там никого не было, люди еще не вернулись с работы, и, подавленный
какой-то смутной тоской, я улегся на свою койку в темноте раннего осеннего
вечера, даже не зажигая электрического света. Вдруг за дверью в коридоре
раздались какие-то свирепые мужские голоса, топот ног, звуки тяжелой возни -
дверь с треском распахнулась, и в комнату пал, спиной и затылком на пол,
какой-то голый по пояс человек. Удар его тела о доски пола был столь
полновесным и тяжким, что он, оглушенный, полежал несколько секунд на спине,
едва ворочаясь. Но довольно быстро ожил, с внезапной резвостью вскочил на
ноги и, грозно рыча, словно медведь, вновь выметнулся назад в коридор. Тогда
я поднялся с койки и, прошлепав босыми ногами до двери, прикрыл ее и запер
изнутри на защелку.
Вечерами холостая молодежь общежития порой устраивала танцы под радиолу, и
это происходило зимою в обшарпанном вестибюле на первом этаже, а летом во
дворе, на асфальтированном пятачке. Парни и девушки танцевали парами,
обнявшись. Я тоже иногда танцевал, осмелившись пригласить какую-нибудь
пахнущую дешевым одеколоном партнершу, но чаще всего стоял где-нибудь в
сторонке и любовался издали.
Очень во многом наша жизнь общежитская была натуральной, как у диких племен,
без особых правил морали. Но тогда получить возможность и для такого
малоцивилизованного существования было, оказывается, не очень-то просто.
Когда я прожил таким образом почти месяц, выяснилось, что местная милиция
отказала мне в прописке. Я был принят на работу по протекции отца моей
учительницы, меня устраивал в общежитие сам заместитель начальника треста
Мотов, которому я лично передал рекомендательное письмо... Но я шел
одиночкой, а не по линии организованного набора рабочей силы, и милиция
сочла невозможным дать мне временную прописку. Я вновь поехал к Мотову, и
он, седовато-серый, как матерый волк, чиновник с лысиною, сказал мне,
потирая, по своему обыкновению, утомленные глаза рукою, что со своей стороны
сделал все, о чем просил N.N. (отец моей учительницы), а в отношении милиции
и прописки в паспорте он ничем помочь не может. И Мотов посоветовал мне
обратиться в Главный паспортный стол Московской области.
Часть вторая
Начало
В августе 1963 года я ехал ночным поездом из Ростова-на-Дону в Москву. За
оконным стеклом покачивалась громадная мгла, позади осталась тысяча дней
службы в армии. Впереди ожидали другие тысячи дней жизни, которые я уже знал
как потратить. Единственным, ради чего стоило жить, было писательское дело,
все остальное стало для меня непривлекательным, чуждым и безразличным.
В вагоне было темно, кондуктор уже выключил свет, пассажиры давно спали,
забравшись на полки, лишь я один бодрствовал, сидя за боковым столиком, и
сон бежал от глаз моих. Мне было так печально, как никогда раньше, и
бесконечная мгла ночи баюкала эту печаль. Да, да - все дело было в том, что
в той ночи, через которую я ехал, и в том завтрашнем дне, куда я
устремлялся, мне не было места. Никто меня не ждал - вернее, я сам ни с кем
не жаждал встречи. В двадцать четыре года я был как вырванное с корнями из
земли молодое дерево. Порвались все мои связи с жизнью.
В полутемном проходе показался темный силуэт какой-то женщины. Она подошла
ко мне, присела напротив и спросила, чего это я не сплю, о чем горюю, сидя
тут один, куда еду и зачем. Тут неожиданно для себя я заговорил - торопясь и
волнуясь, ничуть не заботясь о том, поймут меня или нет: о пропащей своей
молодости, об утерянной радости жизни, о тошном своем нежелании возвращаться
туда, где нужно заниматься такими же делами, как и все вокруг.
Помню, эта пожилая женщина с каким-то молодым жаром, взволнованно и
задушевно стала возражать мне...
- Радуйся,- говорила она,- что все кончилось! Ты же домой едешь! Кто-нибудь
тебя ждет, кто-нибудь встретит, поди.
- Никто не встретит,- отмахнулся я от нее.
- Не может быть! Ты вон, солдатик, какой хорошенький,- затараторила она,-
тебя небось какая-нибудь девушка ждет! Обязательно ждет, а как же!
- Ну, может быть, одна и ждет...- нехотя обмолвился я.
- А ты сообщил ей, что едешь?
- Нет.
- Почему же?
- Не хочу...
- Ты дай мне адресок. Мне на следующей станции сходить, вот я и отправлю
телеграмму.
- Не надо,- отказался я.- Если бы хотел, сам сообщил бы из Ростова...
- Ну все равно, черкани мне на бумажке адресок. Давай, солдатик! - не
отступалась женщина.- Уже поздно, почта, поди, не работает, так что
телеграмму вряд ли удастся отправить... Это я так, на всякий случай прошу...
Ну что тебе стоит? Черкани только адрес и фамилию с именем - и больше от
тебя ничего не требуется...
Настойчивость незнакомки была странной, необъяснимой. Но и отказывать ей в
ее просьбе было бы странно... И я не стал больше упираться, вынул блокнотик,
в котором обычно записывал стихи, на чистой странице "черканул адресок",
написал имя и фамилию девушки.
Вот так и случилось, что на следующее утро эта девушка встретила меня на
Казанском вокзале - и вскоре, через месяц, стала моей женой.
Моя новая "философия жизни" не допускала возможности брака и семейного
счастья. Я хотел писать стихи и прозу и уже предчувствовал, что это никому
не будет нужно, никому, кроме меня одного. При таких обстоятельствах,
готовясь к суровому и, может быть, мучительному отшельничеству безвестного
поэта, я даже и в мыслях не мог позволить себе удела тихого семейного
счастья.
Но, как и всегда, воля судьбы оказалась сильнее моей собственной. Пугающий
меня, тревожный брак мой состоялся... Та незнакомая женщина в вагоне ночного
поезда - какая все же это была посланница? Союзница ли моего жизненного
проекта, или его враг? Потому что ничего более сокрушительного для
осуществления этого проекта нельзя было представить, чем скоропалительная
женитьба и последовавшее через десять месяцев рождение первого ребенка. В
самом начале пути, не имея ни работы, ни жилья, ни каких-нибудь
опубликованных работ, молодой писатель обзаводится женой, начинает свою
семейную жизнь со скитаний по квартиренкам и комнатенкам, снимаемым в разных
районах Москвы, зарабатывает какие-то гроши на случайных работах - то
сторожем, то ночным истопником на стройке...
Уже была напечатана в "Новом мире" повесть Солженицына "Один день Ивана
Денисовича" и ходили по рукам самиздатовские тексты "Ракового корпуса" и "В
круге первом". Самиздат распространял рассказы, повести и куски романа
"Чевенгур" Андрея Платонова. Было что почитать вернувшемуся из армии
недоучке-студенту.
Я читал самиздат, переведенных на русский Фолкнера, Кафку, слушал песни
бардов, но сам ничуть не приблизился к существующему миру поэзии и
литературы. Мне неведомо было, где он находится.
Правда, еще на втором году службы в армии я однажды повстречался с ПВР -
Писателем Веселовского Района. Произошла она в Ростовском парке культуры и
отдыха, жарким и пыльным летом, во время моего воскресного увольнения. Я
тогда потолкался в толпе гуляющих, издали присматриваясь к разного вида
представительницам прекрасного пола, а затем, часа три спустя, охваченный
чувством полной безнадежности, ушел в боковую аллею и присел там на
пустующую скамейку. И, как это нередко бывало, вдруг из пустоты и душевного
отчаяния вылилась сверкающая струйка нового стиха. Я вынул записную книжку и
записал его.
И тут на скамье придвинулся ко мне человек в соломенной шляпе, в синей



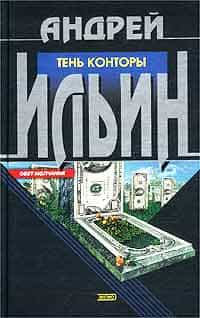
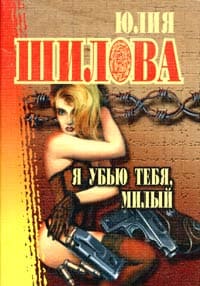
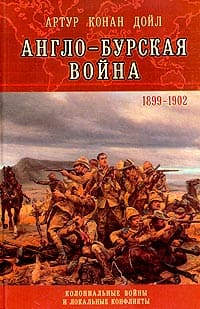
 Шилова Юлия
Шилова Юлия Афанасьев Роман
Афанасьев Роман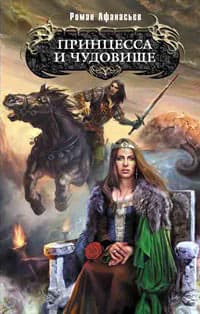 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Плотников Александр
Плотников Александр Шилова Юлия
Шилова Юлия Сертаков Виталий
Сертаков Виталий