боевой дух.
Голубоглазая Шира Григорьевна учила меня ухаживать за больными детьми,
варить особенно питательную кашу из овсянки, выслушивала мое чтение - я
читал ей кое-какие свои рассказы. Муж ее, тщедушный и болезненный старик,
прекрасный акварелист Мендель Горшман, также уделял мне много внимания,
подбадривал и вселял в мою слабеющую душу всяческую надежду. Однажды он
предоставил мне на целую зиму свою художественную мастерскую, расположенную
на Сиреневом бульваре, и я мог там уединяться, чтобы вдали от семейных дрязг
творить свои бесполезные пока "нетленки". Не представлялось, что
когда-нибудь они смогут принести хоть какую-нибудь пользу моим ближним, моей
маленькой семье, затерянной в огромной столице, и мне самому.
У этих добрых соседей оказался зятем самый, пожалуй, знаменитый артист того
времени - Иннокентий Смоктуновский. Слава его была так велика, что в Киеве,
в Ленинграде и Москве были созданы общества поклонников, которые время от
времени устраивали конгрессы фанатов. Эти общества самозабвенных любителей
Смоктуновского несколько иронично называли сами себя "сектой смоктунов". Они
вели меж собою активную переписку, производили обмен культовыми ценностями:
фотографиями артиста, открытками, автографами, пуговицами с его пиджака,
оторванными во время одного из захватов фанатичками зазевавшегося кумира у
подъезда его дома, статьями о нем во всей многообразной отечественной и
зарубежной прессе и т. п.
Я сам очень любил этого артиста, считал его, пожалуй, единственным у нас,
которому удалось быть абсолютно самобытным. В конформистском обществе все
таланты должны были так или иначе принимать участие в создании всеобщего
стереотипа. И только у Смоктуновского, игравшего те же пресловутые роли
"наших" положительных или "наших" же отрицательных героев, получалось в
высшей степени своеобразно, с неожиданными глубинами, хорошо и подлинно
прочувствованными и переданными. Смоктуновский не играл своих героев, он
перевоплощался в них.
Помню, впоследствии, время от времени встречаясь с ним, я часто совершенно
не узнавал его. Ибо он весь менялся в связи с какой-нибудь новой ролью. Я
впервые увидел его вживе на лестничной площадке перед дверью своей квартиры.
Мой кумир стоял в унылой позе, положив руку на перила лестницы, глядя вниз -
оказывается, пришел к своей теще, да не застал ее... Передо мной находился
принц Гамлет с короткой прической русых волос, глубоко ушедший в себя,
должно быть, в размышления о полной безнадежности человеческой природы.
Драма отсутствия тещи Гамлета была не столь уж глубокой и значительной, но
он все еще продолжал оставаться в образе, потому как съемки фильма "Гамлет"
и премьера прошли совсем недавно.
Впоследствии у той же его тещи я однажды увидел какого-то лысого, мясистого,
с розовым голым лицом человека, которого я принял за одного из ее гостей.
Довольно часто в квартире Горшманов появлялись эти господа из провинции.
Раньше жившие в коммуналке, в одной комнате со взрослой дочерью, а потом и с
зятем, старики с получением отдельной двухкомнатной квартиры почувствовали
себя владельцами полумира (наверное, точно так же, как и я!) и стали чуть ли
не зазывать к себе иногородних друзей и поселять их на столичное прожитие у
себя. Налысо обритый, с блестящим черепом и сытым загривком новый гость моих
соседей без особенного удивления посмотрел на меня, стоявшего посреди
комнаты и разговаривавшего с маленьким хозяином в зеленом свитерке, молча
кивнул мне и затем прошел на кухню. Я еще немного поговорил с хозяином, и
вдруг в разговоре обнаружилось, что прошедший на кухню господин был вовсе не
гость, а зять. Смоктуновский тогда снимался в кинофильме "Преступление и
наказание" в роли следователя Порфирия Петровича, и он у актера почему-то
выходил таким: обтекаемо-лысым, сытым, с плотоядными губами, с внимательным
и в то же время ускользающим в сторону взглядом синих выпуклых глаз...
Так бывало несколько раз. В те дни, когда он снимался в "Чайковском", я
неудачно разминулся с ним на пешеходной дорожке у нашего дома, задел локтем
и, извинившись, прошел дальше. Меня окликнули, я остановился и оглянулся.
Бородатый человек с красивым одухотворенным лицом несколько болезненного
вида - какой-то очень сосредоточенный, светло напряженный - смотрел на меня
и окликал по имени. Это был он, милейший Иннокентий Михайлович. "Что же вы,
Толя, не хотите поздороваться со мной? - усмехаясь, молвил он.- За
что-нибудь обиделись на меня?.."
И все же самое яркое впечатление было при первом знакомстве со Смоктуновским
-Гамлетом. Впоследствии, когда мы вроде бы подружились (у него, конечно,
было очень много и других людей, называвших себя его друзьями) и он даже
крестил меня вместе со своим двадцатипятилетним сыном Филиппом - мне же было
тогда сорок лет,- много разных обличий и личин наблюдал я у этого
гениального актера. И не знаю до сих пор, какая личина была его самая-самая
настоящая и единственная. Мир праху его.
Он был крестным отцом мне не только по православной вере. Подлинным крестным
оказался для меня Иннокентий Михайлович Смоктуновский и в литературе. В ту
первую нашу встречу на лестничной площадке я осмелился предложить ему зайти
ко мне и там подождать возвращения тещи. На что мой кумир довольно охотно
согласился. И чудесный посланец судьбы переступил порог моего дома.
Тогда еще проживала у меня одна из моих сестер, студентка химического
института. Она чуть не сошла с ума, увидев перед собой столь знаменитого
гостя. Иннокентий Михайлович посидел у нас совсем немного, вскоре вернулась
его теща, и он перешел к ней. Прежде чем уйти, Смоктуновский открыл
небольшую картонную коробочку, что держал в руке,- там оказалась золотистая
копченая мойва. Это был гостинец теще, но в благорасположение к нам он
выложил из коробки копченой рыбы, сколько могла захватить его рука с
длинными ухватистыми пальцами, поросшими рыжими волосами. И эту рыбу сестра
моя не желала отдавать на съедение, хотела сохранить навеки как бесценный
раритет, однако я воспротивился, и вкусная рыбка была все же съедена. Тогда
сестра собрала все рыбьи хвостики и куда-то спрятала - может быть, и до сих
пор держит их где-нибудь в семейном сундуке...
Через месяц после этой встречи Смоктуновский снова появился в моей квартире.
В прошлый раз при знакомстве я кое-что рассказал о себе: чем занимаюсь, как
живу. Но он сам прекрасно увидел, как живу. В крошечной моей квартире
имелось всего три стула, два пружинных матраца с деревянными самодельными
ножками, один самодельный письменный стол. У стены стояла детская кроватка,
над нею на стене бурые следы от давленых клопов. Прошедший в молодости
свирепую школу артистической богемной нищеты, Смоктуновский в одну секунду
все понял, и мне не надо было пытаться скрыть что-то...
Он зашел к нам и попросил у меня рукописи каких-нибудь рассказов, которые,
на мой взгляд, могут быть напечатанными. Он хотел их отнести в какой-то
журнал. Я совершенно откровенно рассказал ему, что все бесполезно, что
десять лет уже бегаю по редакциям и никто не хочет печатать меня. Тем не
менее он настоял, и я отдал ему рукописи двух небольших новелл.
Не знаю, что заставило артиста прийти мне на помощь. Я ее уже ни от кого не
ожидал - и не потому, что разуверился в людях, а просто считал, что в нашем
деле никто никому помогать не должен. Да и невозможно это было. Ради такого
дела, которое нужно только мне одному, откуда и какой же мне ждать помощи?
Он отвез мои рукописи в Ленинград и там передал в редакцию журнала "Аврора".
Не знаю, как он представлял меня, но всего через три месяца я уже держал в
руках зеленый номер журнала с первыми напечатанными моими рассказами.
Произошло это славное событие в январе 1973 года.
Очень скоро после этой публикации, в следующем месяце, появилась в
"Литературной газете" обзорная статья за подписью ЛИТЕРАТОР (официозная
редакционная рубрика), в которой среди нескольких журнальных удач
начинающегося года первыми были названы мои два рассказа. Достоинством
рассказов ЛИТЕРАТОР отметил их язык - "высокую культуру письма".
Колоссальный вздох облегчения изошел из моей многострадальной груди. Ведь я
больше всего опасался того, что в моем физическом существе нет ни одной
русской клеточки, и вся длинная генетическая цепочка, пока что завершенная
моей невнятной персоной, не содержала в себе ни одного звена русской
языковой природы. Я боялся, что при всех моих стараниях фатальным барьером
предстанет для меня иноязычное мое происхождение. Родители мои, хотя и были
школьными учителями, лишь наполовину, а то и намного меньше использовали в
своей жизненной практике русский язык. Эта неуверенность и тревога - быть
"уличенным" во вторичности языка, в некоем неисправимом "акценте" инородца -
мучили меня все эти нелегкие годы литературного становления... И вот первое,
что услышал я от критики,- слова о моей "культуре письма"... Было отчего
вздохнуть с великим облегчением.
После дебюта потек тоненький ручеек моих журнальных публикаций. Пожалуй, с
1973 года до сих пор в разных русских и нерусских журналах страны ежегодно
печатаются мои рассказы, повести, романы, пьесы, киносценарии. С 1976 года
стали выходить книги. И в реке времени этот журнально-книжный поток течет
уже более двадцати лет.
Я сейчас имею возможность посмотреть на этот поток со стороны, как бы стоя
на берегу реки и обозревая ее извилистые повороты, сужения, широкие разливы.
Эта река литературного творчества и есть река моей подлинной жизни на Земле.
Она еще течет, и я еще живу. Мне удается увидеть ее исток, также ясно вижу
реку своей жизни в ее среднем течении, там, где проявились ее самые
характерные признаки. И уже предощущаю где-то в недалеком пространстве бытия
тот сверкающий вечный океан, в котором бесследно исчезают потоки всякого
жизненного творчества - все великие и малые земные реки. Я стою сейчас на
берегу своей невидимой реки жизни и испытываю благоговейный душевный трепет
перед высоким небом, что светится над грядущим океаном, собирателем всех
творческих человеческих судеб. Надеюсь, что ничто не случайно в этом мире,
изумительном шедевре высшего художественного творчества, и каждый поток
обязательно дойдет до океана и сольется с ним.
Книги-1
Первая книга далась мне нелегко. Ее история полна драматических событий,
приключений, интриг и даже тайных преступлений. Началось с того, что однажды
мой бывший руководитель семинара в Литинституте, Владимир Германович Лидин,
решительно заявил мне, что пора составлять книгу рассказов. И сердце мое
тревожно замерло.
По окончании института мои отношения с мудрым, старым Лидиным продолжались.






 Посняков Андрей
Посняков Андрей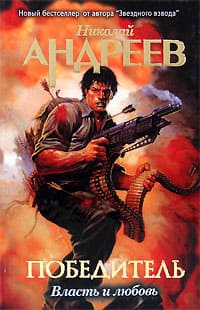 Андреев Николай
Андреев Николай Посняков Андрей
Посняков Андрей Корнев Павел
Корнев Павел Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Корнев Павел
Корнев Павел