Я старался угадывать и в литературной форме запечатлевать все то, что
приходит вместе с отдельным человеком, вместе с ним и уходит - и никогда
больше не повторится. Я хотел разгадать закон неповторимости.
Моей целью стало выражение уникального, а не отражение типического. Все мои
герои похожи только на самих себя и никоим образом не приближаются к
"собирательным образам" или "типическим персонажам в типической обстановке".
И я могу наконец обрести окончательное самоопределение. Я писатель
человеческой уникальности. В эстетике меня влечет не яркий символ вечного, а
трепетный нюанс мимолетного.
Ибо я нашел, что национальность у человечества одна, и она называется -
человек. И я стал его национальным писателем. Моим письменным и звучащим
языком стал русский, на нем осуществлены все оригиналы моих книг. Моим
дописьменным незвучащим языком стал всеобщий язык человеческого сердца,
известный и понятный каждому, кто когда-нибудь появлялся жить на этом свете.
И этот каждый, брат мой и товарищ по мгновению существования, читает мои
книги на нашем общем родном языке.
Путешествия
Эта правдивая повесть о моей писательской судьбе будет неполной, если я не
расскажу о своих путешествиях по стране и по миру.
По натуре я не путешественник, а домосед, для которого спокойное и подробное
созерцание малой родины милее экзотических впечатлений далеких путешествий.
Однако я был рожден, очевидно, скитаться по земле и должен был повидать
многие края нашей большой страны, а также разные континенты и страны.
Я всюду побывал в бывшем СССР: от Камчатки до Белоруссии, от Мурманска до
Киргизии, в Сибири и Средней Азии, в Крыму и на Кавказе.
В зарубежных поездках повидал я Америку и Японию, был во многих странах
Европы, съездил в далекое Марокко на севере Африки.
Я особенно ценил в этих поездках совершенно свободное от программы и
протокола время, когда мне выпадала счастливая возможность одному бродить по
незнакомым местам, улицам и площадям городов, где никогда раньше не ступала
моя нога - да и не только моя, но и всех моих предков. Особенное чувство,
густое и хмельное, охватывало мою душу, когда я не спеша прогуливался по
родине, где еще ни разу не приходилось мне бывать. Ибо откровение, великое,
волнительное, было в том, что вся планета есть моя родина, что всюду я иду
по родной земле, где бы я ни оказывался: в Европе ли, в Африке или в
Японии...
Впервые это чувство, что я у себя дома, находясь Бог весть в какой дали от
отмеченной в паспорте родины,- чувство всемирности, планетарного
космополитизма, обдающее сердце жаром безнадежной любви ко всему
человеческому миру, ко всем джунглям, сахарам и европам, охватило меня в
Финляндии, на том безвестном мосту в Хельсинки, через который я перешел и
углубился в незнакомый город. Я переходил через мост с тяжестью величайшей
печали, навалившейся мне на сердце, ибо я-то этот мир узнал, почувствовал и
полюбил, но он-то меня и знать не хотел. Встречная финская девушка,
белокурая, голубоглазая, в пестрой вязаной шапочке-колпаке, даже и глазом не
повела в мою сторону, проходя мимо, и это было не наигранным чувством
полного безразличия с ее стороны.
Был серый вечер, смеркающийся, весенний, с черными корявыми силуэтами дубов
бульвара, вставшего на моем пути. Шли навстречу еще какие-то финны, они
также миновали меня, как и блондинка на мосту, и воистину им никакого дела
не было до того, что я в их туманной стране узрел еще один лик нашей общей
родины, а в них вдруг ощутил свою тягучую тоску по какому-то искрящемуся и
многоцветному, как радуга, счастью, которого нет и не может быть среди
угрюмых финских лесов и болот...
А в каком-то городе, ближе к Полярному кругу, меня встретил один писатель из
местного Союза финских писателей, парень этак лет тридцати пяти на вид,
жилистый, веснушчатый, с невыразительным мужицким лицом. Был ли он молчалив
или разговорчив, я не знаю, потому что мы с ним совсем не разговаривали - ни
он по-русски, ни я по-фински не понимали. Но вместе ходили и ездили по
разным местам, обедали, пили пиво, и мне было легко и приятно с ним... Так
вот, слияние моей души с его медлительной северной душою было настолько
убедительным, что я совершенно не запомнил себя в той нашей встрече. Я эту
встречу увидел его глазами и запомнил его памятью.
О, как скучно ему было утром с похмелюги подниматься и переться в отель,
чтобы везти меня, российского гостя, на машине в далекий лесной дом
знаменитого финского художника-отшельника. Но когда мы приехали к этому
дому, вернее, подъехали к незаметному съезду с асфальтированной дороги на
узкий лесной проселок, там оставили машину и долго шли лесом, затем через
дикое поле и наконец подошли к великолепному новому бревенчатому дворцу,
который был, оказывается, возведен на месте старой хижины, где жил и творил
когда-то художник - в моем веснушчатом бесцветном спутнике произошли
разительные перемены.
Я почти перестал узнавать его! Вернее, я уже не видел его - я ощущал и видел
себя в этом человеке. Наши чувства слились, а сердца застучали в едином
ритме от волнения, восторга, зависти и внезапно навалившейся пронзительной
тоски. Ибо мой вожатый, финский писатель из провинциального городка, и я,
приехавший из России писатель, вдруг в одно и то же время сильно
разволновались по одной и той же причине. Быстро переглянувшись, мы
понимающе и сочувственно улыбнулись друг другу.
Мне стало ясно там, что величайшее счастье человека-художника заключается в
том, чтобы жить и работать в лесу, в таком великолепном большом и красивом
дворце со всеми удобствами, с отлакированным белым полом... И чтобы можно
было такой дом построить на те деньги, которые удастся заработать своими
руками,- кистью ли, карандашом или пером... Но я понимаю, как для меня это
труднодостижимо, если я всего лишь провинциальный писатель местного значения
и живу на стипендию, которую назначил мне Союз финских писателей нашего
территориального округа. Скорее всего мне никогда не построить подобного
дома и не жить в лесу в этаком комфортабельном отшельничестве. И я
переглядываюсь с этим симпатичным гостем из России, с Анатолием Кимом, и
вижу в его глазах, что и он не прочь бы заиметь такой дом в лесу.
Любил я ходить один по чужой стране, свободно шагать куда глаза глядят,
раздвигая таинственные завесы незнакомого мира. И что же? В причудливой
череде самых неожиданных картин, ландшафтов и жанровых сцен не было ничего,
ничего такого, что не отзывалось бы родством и знакомством в ответном
чувстве моего сердца.
Я однажды целый месяц разъезжал по Западной Германии, следуя из одного
университета в другой с лекциями на тему: "Особенности моего литературного
творчества". Сколько же раз я встречался тогда с самим собой, причудливым
образом запрятанным в немцах - вмонтированным, так сказать, в самых разных
представителей этой расы. И то, что я по истинному своему рождению кореец,
ничуть не мешало тому, что моя душевная суть самым замечательным образом
проявлялась в каком-нибудь пруссаке, который горд тем, что ни разу в жизни
не нарушил общепринятых правил и законов, честно держал данное слово и на
все сто процентов выполнял свои обещания.
Я ехал на теплоходике по Рейну, забрался на верхнюю палубу, сел за столик и
заказал себе "цвай вюрстен унд айн бир". Был замечательный летний голубой
день на реке, по скалистым берегам которой величаво высились средневековые
замки, и я чувствовал себя совершенно удовлетворенным жизнью, и самим собой,
и своими замечательными человеческими качествами. Тем более что мог
непосредственно обозревать это за соседним столиком - в виде лысоватого,
рыжеватого немецкого дядьки лет сорока. Он был одет в светлый бежевый
костюм, при галстуке, который уютно лежал на его белой рубашке, в точности
повторяя конфигурацию небольшого бюргерского живота.
Я пил немецкое пиво, закусывал горячими сосисками, сочными, также вполне
немецкими, и чувствовал себя благонадежным, неплохо устроившимся в жизни
немцем, который заслужил все то, что он сейчас имеет: фатер Рейн, пиво,
сосиски, замечательное чувство собственного достоинства и довольства,
застывшее благодушной маской на моем гладком, бритом лице.
Подобную свою маску я видел много раз и в других странах, где мне
приходилось бывать, и всюду ловил себя на том, что "выдаю", оказывается,
заведомо фальшивое выражение на этой маске! Не могло быть такого, чтобы то
самое малое, единственное, первое человеческое Я выражало на физиономии
своей сияющее самодовольство, потому что это первое Я всегда подспудно
помнило о своей смерти и постоянно, до обморока, боялось внезапной потери
имущества, или роковой болезни, или попросту одинокого голодного
существования в старости.
Значит, сияющее самодовольство, спокойное и уверенное веселие, бестрепетный
оптимизм, выражаемый масками узнаваемых мною моих двойников в разных
странах, исходили не от первого человеческого Я, а от второго. Маска
благополучия и беспечного самодовольства, словно ты никогда не умрешь,
присуща, таким образом, нашему второму Я, тому самому, которое ищет Бога,
видит себя только рядом с Ним и в оценках собственного своего существования
на Земле исходит из чувства вечности, а не смертности, из ощущения полного
вселенского благополучия, а не ожидания всемирной катастрофы.
Но мои глубокие симпатии принадлежат первому моему сиротливому чувству Я. В
королевстве Марокко как-то среди дня я наконец-то остался один.
Воспользовавшись этим, я вышел из гостиницы и не спеша отправился на
прогулку, прошел сначала к реке, спустился к набережной мимо высокой красной
стены, окружавшей помпезные здания королевского дворцового ансамбля. У входа
на территорию дворца высились на верховых верблюдах нарядные кавалеристы
охраны - черноусые красавцы в чалмах, с громадными саблями на бедре.
Нет, эти парни из королевской стражи не показались мне моими двойниками, и я
никак не мог представить себя на месте кого-нибудь из них, сидящим верхом на
дромадере. Так же не мог представить, что марокканскому стражнику из
верблюжьей кавалерии дано осознать себя Анатолием Кимом, русским писателем
корейского происхождения.
Но когда я обогнул угол дворцовой стены и направился вдоль нее, то на
совершенно пустынной набережной увидел сидящую на земле женщину. Она замерла
с протянутой рукой, склонив ничем не покрытую растрепанную голову, а рядом с
нею, чуть позади, лежал на каменной мостовой совершенно голый младенец. Он






 Беляев Александр
Беляев Александр Марко Джон
Марко Джон Круз Андрей
Круз Андрей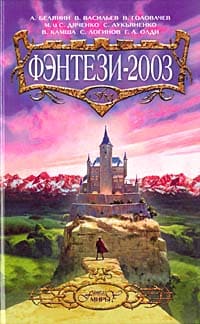 Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий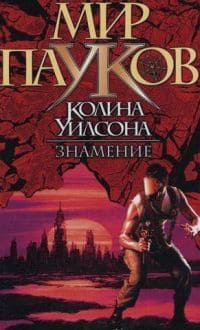 Прозоров Александр
Прозоров Александр Круз Андрей
Круз Андрей