корейчонком, но меня избрали, я был отмечен благосклонностью Бэлы, и это
пробудило в моем трепещущем, словно у кролика, сердце какую-то безумную
отвагу. Я дрался с неблагородной шпаной из уличных шаек, которые, как волки,
кружились вокруг наших невинных игрищ, затаив в душе какие-то преступные
замыслы. Они подлавливали меня, когда поздно вечером я один уходил из
военного городка домой. Они вызывали меня на кулачный бой с кем-нибудь из
них и выставляли против моих мелких кулаков и жиденьких мускулов
какого-нибудь бугая на голову выше меня. И я дрался с ним и зарабатывал себе
на лоб громадную шишку, а под глаз синяк - и носил все это перед Бэлой,
ласково и понимающе смотревшей на меня, как боевые знаки отличия.
Но это трудное мое счастье продолжалось недолго. В те дни я впервые
почувствовал, что самое невозможное возможно для меня, если я буду драться
за то, что люблю, ничего не боясь и с готовностью в душе пойти до конца...
Кто-то мне помогал - чтобы я мог преодолеть свою робость и смело, весело
взглянуть в глаза опасности. Однажды после кино возле клуба меня окружила
целая ватага неразличимых в темноте пацанов, и мне было сказано, что я,
корейская морда, много о себе воображаю и дружу с девчонкой, с которой хочет
дружить сам Паротик (это был бледный курящий и пьющий малый лет шестнадцати,
главный "пахан" детского уголовного мира нашего поселка), и сейчас из меня
сделают урода... В тесно сомкнувшийся круг ворвался какой-то кудрявый
крепыш, широкоплечий, на голову выше меня. "Дайте, я врежу ему, пацаны!" -
попросил сей добровольный экзекутор-любитель у почтенной публики и второпях
не очень удачно смазал меня по скуле. (Впоследствии я узнал, что это был
некто Валера, новоприбывший к нам офицерский сынок - один из тех ребят
воинского городка, которым самим нравилась Бэла и не нравился я.)
Я тогда громко и весело рассмеялся. Этот неожиданный и для меня самого смех
спас меня. Мне показалось смешным то, как суетился и спешил кудрявый малый,
изготавливаясь врезать мне. Моя готовность принять все - безо всякого страха
и упрека, в благодарность за избранничество Бэлы - оказалась и на самом деле
великой. И я почувствовал во враждебной темноте сахалинской летней ночи, что
мне кто-то помогает... Прибежали большие ребята из корейской школы, которых
успел позвать мой младший брат, и после нескольких тычков по зубам и
увесистых пинков в зад мои враги быстро рассеялись в темноте.
Итак, я оказался узнанным Бэлой, и она пожелала предпочесть меня, а не
другого, и этот другой, могущественный руководитель нашего поселкового
детского уличного мира, просто уже обязан был как-нибудь расправиться со
мной. Потому что я не собирался уступать и, охваченный счастьем и гордостью,
смело шел навстречу судьбе.
Но вся эта моя готовность заплатить хоть жизнью за свое счастье не
понадобилась. Вскоре воинскую часть перевели куда-то в другое место.
В последний день, когда на железнодорожной станции уже стояли на открытых
вагонах-платформах зачехленные пушки и грузились в товарные вагоны солдаты,
офицеры и их семьи, было тепло и ясно и весело играл военный духовой
оркестр.
Я стоял один в стороне и смотрел, как от грузовиков к вагонам бегают мои
уезжающие друзья, таская домашний скарб. Бэла тоже хлопотала, оживленная,
веселая, не обращая на меня внимания. И я скоро ушел домой.
Мать попросила меня наколоть дров, и я с топором пошел к сараю. Я занялся
дровами и все время слышал, как играет на станции духовой оркестр... Потом
не выдержал и, бросив топор на землю, кинулся бегом к станции. Когда я
вбежал на железнодорожную платформу, поезд уже тронулся и вагоны медленно
проплывали мимо. Духовая музыка, звучавшая из переднего вагона, была уже
далеко.
Я хотел еще раз увидеть Бэлу. Я молил об этом Бога. Но Он почему-то не
разрешил мне этого.
Вместо нее в широко открытой двери проходящего вагона я увидел кудрявого
Валеру, того самого, который когда-то небольно стукнул меня кулаком по
скуле. Теперь он равнодушно мельком посмотрел на меня и, видимо, не узнал.
Сахалин-2
Этим же летом наша семья уехала из Ильинска - мы перебрались поближе к южной
оконечности острова, в город Горнозаводск, при японцах называвшийся
Найхоро-Танзан. Он мало чем отличался от предыдущего нашего места
проживания: все такие же длинные унылые бараки пыльного цвета, все те же
немощеные грязные улочки, покрытые черным прахом угольного шлака,
выбрасываемого жителями прямо на дорогу. Городок этот располагался не вдоль
морского берега, как прежний, а как бы впритык к морю - протянувшись на
несколько километров по речной долине в глубину острова, между высокими
крутобокими сопками, часть которых была покрыта темной зеленью лесов, а
часть - яркой травой безлесья, среди которого торчали, словно причудливые
скульптурные изделия, серебристые останки давно сгоревших деревьев. Здесь,
на лысых сопках, когда-то были хорошие леса, но японцы их вырубили, а что не
успели взять, то сгорело в лесных пожарах.
Если посмотреть со стороны моря, проезжая мимо Горнозаводска на пароходе, то
можно увидеть лишь серую полоску песка и несколько длинных бараков точно
такого же цвета, как и песок, да еще черную высокую трубу кочегарки, из
которой выдавливался в небо лохматый угольный дым.
На пароходе я никогда не проезжал вдоль этих берегов, следовательно, ожившую
сейчас в моей памяти картину я видел лишь с поверхности волны, покачиваясь
на ней, когда заплывал вместе с ватагой товарищей далеко от берега. Людей на
нем уже нельзя было различить, никаких звуков с пляжа тоже не долетало - и
мы плыли, время от времени оглядываясь на безлюдную тишину вдали
видневшегося города, который представал перед нами, парящими над бездной
морской пловцами, совершенно незнакомым и таинственным.
Этот небольшой шахтерский городок, протянувшийся в глубину речной долины,
стал для меня тем местом на земле, где вызрела моя юность, словно птенец под
надежным родительским крылом. С четырнадцати и до семнадцати лет я
благополучно и счастливо прожил в Горнозаводске. И в этом заурядном уголке
глубочайшей сахалинской провинции и суждено было мне впервые прикоснуться к
сокровищам, дороже которых нет ничего в человеческом мире. Там я впервые
прочитал "Войну и мир" Толстого и проникся высшим духовным трепетом поэзии
Лермонтова. В это же время я написал и свои первые лирические исповедальные
стихи и сделал первые рисунки с натуры и этюды масляными красками.
Выходя из моря на берег ярким летним днем, подталкиваемый в спину дружескими
крепкими ударами волны, я однажды ощутил себя ловким и сильным мускулистым
парнем - так я незаметно и радостно проделал переход из детства в юность. И
если все пронизанное светом детство мое было целиком связано со стихиями и
чудесными откровениями природы, то юность моя оказалась благословенной
встречами с людьми, которые бескорыстно несли мне дары уже другой,
человеческой, духовной стихии и красоты, "творчества и чудотворства".
Когда я перешел в девятый класс, в нашу школу приехала работать довольно
многочисленная группа молодых учителей из Москвы, выпускников известного
педагогического института. Это был энергичный, веселый народ, исполненный
желания немедленно сеять вечное и доброе по самым передовым методам
педагогической науки. В сравнении с нашими прежними учителями, дремучими
представителями старорежимной провинциальной педагогики, блистательная
столичная молодежь выглядела соколами рядом с воронами. И хотя мы уже
сжились со своими грозно каркающими педелями до состояния теплой, чуть
попахивающей лицемерием, привычной домашности, новые порядки и веяния,
пришедшие вместе с молодыми учителями, были встречены нами всей душой.
Хотя надо сказать, что сразу обнаружились вопиющие недостатки в прежнем
обучении по разным дисциплинам: мы оказались неучами по математике и химии,
невеждами по астрономии и географии, полуграмотными в русском языке и
дураками по литературе. Но сразу же всей дружной компанией, "без уныния и
лени", столичная плеяда молодых учителей принялась вытаскивать нас из болота
невежества и безграмотности.
Начались дополнительные занятия в школе - занимались после уроков допоздна.
Иногда ходили мы и в общежитие для учителей, куда некоторых из нас
приглашали на индивидуальные занятия. Времени и сил молодые учителя для нас
не жалели, никакой личной корысти для них не было да и не могло быть. То был
порыв чистого энтузиазма новой интеллигенции, продолжающей классические
традиции старинной русской педагогики. Видимо, в знаменитом московском
институте профессора хорошо обучили своих студентов правилам педагогического
благородства и сумели внушить им высокое чувство ответственности за свое
дело.
В сущности, они были бедным классом в существовавшей тогда табели о рангах
государственных служащих: учительская зарплата была одной из самых низких,
пожалуй. Жили они в обычном и типичном для нашего городка длинном бараке с
общим коридором, в маленьких комнатках с печным отоплением. За водой ходили
с ведрами к колодцам или к водопроводным колонкам на улицу, готовили еду и
стирали в своих клетушках - часто приходилось видеть, как на веревке,
протянутой через всю комнату, висело сохнущее целомудренное учительское
белье. И как ни прискорбно об этом упоминать, но нашим милым,
интеллигентным, благоухающим хорошими духами учительницам приходилось бегать
по нужде в классическое дощатое сооружение во дворе, грубо вымазанное для
красоты и гигиены белой известкой.
Бедность не порок, как говорится, и с бедностью наша интеллигенция давно
научилась справляться, и даже настолько успешно, что бедности этой порою и
вовсе не было заметно. Однако в привычной борьбе с нею более умелыми
оказывались все же наши молодые учительницы, а вот с мужской половиной
московской педагогической плеяды обстояло дело похуже. Помнится, Юрий
Петрович, замечательный и любимый наш физик и математик, чернобровый
красавец, приходил в начале нового учебного года в замечательном костюме
цвета кедровых орешков, в наглаженных брюках, в ослепительно белой сорочке и
при галстуке. К концу же учебного года он являлся на урок в том же костюме,
но с дыркой на локте и с такими пузырями на коленях измызганных неглаженых
штанов, что просто неудобно было на него смотреть. О галстуке и белой
сорочке и он, и мы постепенно забыли и старались не вспоминать.
Но именно он, наш добрейший Юрий Петрович, ни разу ни на кого не повысивший
голоса, со всеми учениками обращавшийся неизменно на "вы", приучил нас
слушать классическую музыку. Оказалось, что физик наш к тому же и неплохой


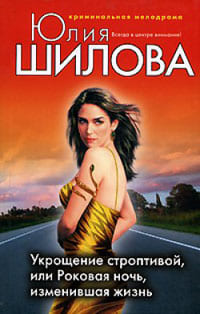
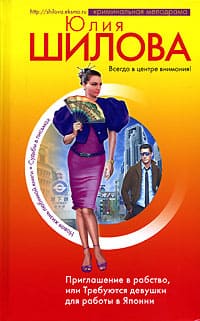
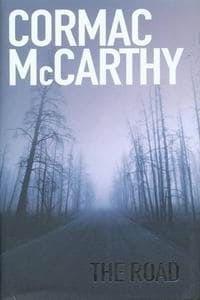

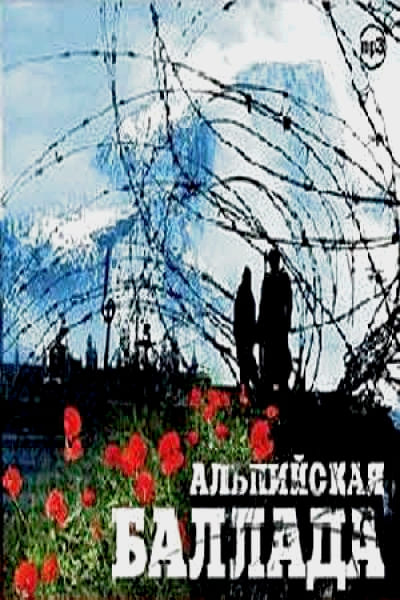 Быков Василий
Быков Василий Афанасьев Роман
Афанасьев Роман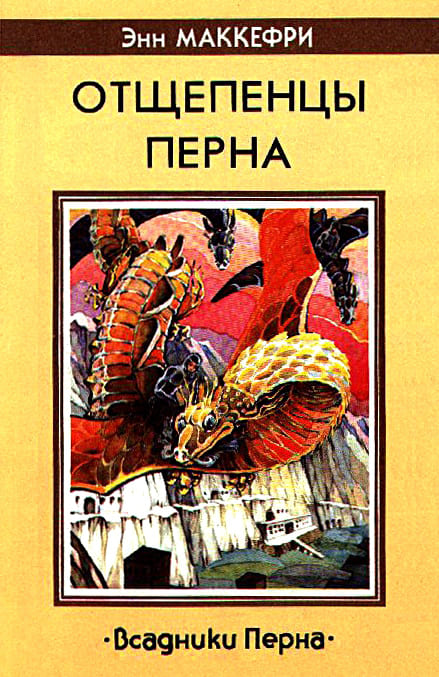 Маккефри Энн
Маккефри Энн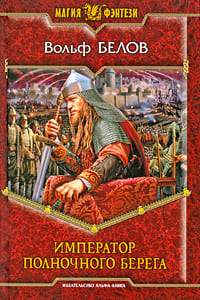 Белов Вольф
Белов Вольф Шилова Юлия
Шилова Юлия Корнев Павел
Корнев Павел