двустворчатодверному лифту (в отличие от левого, грузового,
трехстворчатодверого, хоть модели их и были технически тождественны и
одноразмерны) демонстрировала начавшееся до нажатия кнопки и
независимо от него движение вверх, движение еще более
головокружительное, ибо зайчик исчезал на дольше и перемахивал, выждав
положенное время в небытии, через целые группки ячеек, пока и вовсе не
исчез в одной из них, оставив открытым вопрос: вышли ли пассажиры на
анонимном этаже, за цифрою, обозначающей который, и стеклом колбы
частично испарилась вольфрамовая нить, или отправились вместе с
кабиною на неопределенный срок в манящее икс-измерение, не оставив по
себе никаких следов, и носятся сейчас над некой планетою, порождая
среди ее обитателей смутные слухи о летающих параллелепипедах?
перемещения означали для Арсения самую будничную ожиданность: ехать
придется левым, грузовым, а грузовые лифты Арсений по непонятным для
себя (страх смерти?) причинам очень не любил. Ладно, не станем
обострять без нужды: любил не очень. Во всяком случае, если бы рядом
не было сейчас горбатого Яши, Арсений, пожалуй, даже выждал бы, покуда
кто-нибудь не займет эту переширенную махину, и вызвал бы более
уютную, более человеческую пассажирскую коробочку; в присутствии же
едва, но все же знакомого человека Арсений постеснялся выказать власть
над собою нелепого, как все суеверия, суеверия.
иронической улыбкою подсовывала ему чаще всего именно грузовые лифты;
но если в других домах такое случалось лишь чаще всего, то в этом -
пассажирский всегда находился либо дальше от кнопки вызова, либо -
занят, либо - испорчен. Грузовой же здесь не ломался никогда, кроме
разве того единственного случая, когда по-настоящему-то и оказался
нужен: спустить вниз Яшкин труп, облаченный неподъемными, вечными
доспехами свинцового гроба. Другого, естественно, Яшки. Не горбатого.
Не того, что делил сейчас с Арсением четыре кубометра замкнутого,
перемещающегося по вертикали пространства и, масляно поблескивая
глазками, спрашивал: ты не знаешь, придет сегодня Кутяев? Смотрю я на
него и не понимаю: чем он только их берет? Вроде ни кожи ни рожи,
дурак дураком... Не знаю, пожал плечами Арсений, вспоминающий довольно
уже, оказывается, давний пасмурный день похорон. Я вот специально
сегодня сюда собрался, специально! - не прозу же их графоманскую
слушать! - может, удастся разгадать секрет небывалых его успехов на
венерическом фронте, А ты, посоветовал Арсений, лучше просто попроси у
Кутяева девочку на подержание: от него не убудет; он же меньше чем с
троими, как правило, на ЛИТО не является.
узлы и детали представлялось слишком сложным, едва ли возможным
вообще, и они, Яшкины приятели, ввосьмером тащили с шестнадцатого
этажа по узкой лестничной клетке это сверхтяжелое, громоздкое
сооружение. Предусмотренную на всякий пожарный случай лестницу
архитекторы вынесли куда-то практически вовне двухлифтового, новой
планировки дома, и попасть на нее, узкую настолько, что едва позволяла
расходиться и ничем не нагруженным двоим, удалось лишь довольно
сложным, изобилующим углами и бедным светом путем, после чего,
собственно, и начались главные мучения. Поэтому вообразить, как
перекатывается внутри ящика Яшкино маленькое, при жизни едва
доходившее до Арсениева подбородка тело, как колотится об обитые
материей стенки его красивая голова с лысиною, которую всегда хотелось
назвать не лысиною, а высоким лбом, и с аккуратною шкиперскою
бородкой, нашлось Арсению время только тогда, когда, с горем пополам,
прах все же вынесли из подъезда и погрузили в сумрачные недра
автофургона, а тот двинулся к багажному двору Киевского вокзала, с
которого бывшему Яшке предстояло совершить последнее путешествие в
Одессу, к невменяемым от горя родителям, пережившим единственного
сына, и водвориться в земле, что сорок пять лет назад его породила.
Обратно в квартиру, где устраивалось импровизированное, в складчину
подобие поминок, Арсений поднимался в конечно же заработавшем грузовом
лифте.
неофициальная: женщина, которую Яшка в своих стихах называл Венус. Их
роман тянулся уже много лет, Тамара о нем не то знала, не то
предпочитала не знать, а где-то за неделю до смерти Яшка, не
предполагающий, что ему пришла пора завязывать с жизнью вообще, сказал
Арсению: вс°! С жизнью на два фронта пора завязывать. Регина (Яшкина
дочь) уже большая. И прочел стихи, оставшиеся в памяти такими
строчками:
несколько лет назад, в период выхода из глубокой потенциальной ямы,
куда усадила его история с Нонною, и вкус к бытию он обретал через
стихи, секрет сложения которых - из-за вдруг подаренной
сверхъестественной легкости пера, - ему казалось, он как раз постиг и
которые прямо-таки валились из него: по пяти на дню. Люди в то время
интересовали Арсения лишь постольку, поскольку способны были трепетно
выслушивать и восторженно оценивать его опусы, и поэтому он, увидев
незнакомого человека, первым делом постарался затащить того на кухню,
чтобы, задав для приличия несколько вопросов: как, мол, звать; чем
занимается; пишет ли вообще и если да - что? - приступить к
собственному литературному бенефису. С повышенным достоинством,
присущим некоторым низкорослым людям, Яшка ответил, что он: Яков;
врач; пишет; стихи, - и бестактно воспользовался сделанным Арсением из
одной вежливости предложением что-нибудь прочесть.
возникла бескрайняя заснеженная равнина, посреди которой, задрав
голову к Богу, стоит одетый в белый халат человечек, под чьим ножом
только что умер ребенок. Стихотворение сильно подействовало на
Арсения, и он - чуть ли не впервые в жизни раздумав читать
показавшиеся вдруг бледными и выдуманными свои - проникся к маленькому
еврею глубоким, замешенным на зависти уважением. О том, что кухонное
стихотворение было у Яшки лучшим, что прочие, желчные или
сентиментальные, трактующие либо невыносимость жизни здесь, либо
счастье обретения Родины там, да переводы из советско-еврейской
поэзии - куда слабее, Арсений узнал позже, когда между ним и Яковом
установились достаточно тесные отношения.
пятнадцатилетнее ожидание в семиметровой коммунальной клетушке
принесло очень приличную, с паркетом и двумя лоджиями, двухкомнатную
квартиру, куда Арсений поднимался сейчас на грузовом лифте, обсуждая с
Яшей горбатым сексуальные способности юмориста Кутяева; рублями
скопленные деньги - дешевенький, много раз подержанный, едва ли не
Яшкин ровесник Lмосквич-401v, что был годом каторжного сверхурочного
труда приведен в состояние относительной авто-мобильности; наконец, в
серии LГолоса молодыхv издательства LМолодая гвардияv замаячил сборник
переводов с еврейского. В сорок же пять Яшка умер от сердечного
приступа. Смерть в таких обстоятельствах могла показаться в
зависимости от точки зрения или комической (добиться того, к чему всю
жизнь стремился, и на тебе - умереть!) или счастливою (умереть на
гребне сбывшихся чаяний, не успев нырнуть вниз, в непременное
разочарование), но обе эти точки зрения остались бы посторонними, не
учитывающими, что урегулирование проблем поверхностных (квартира,
машина, сборник) только усугубило проблемы глубинные, метафизические,
поставило Яшку с ним лицом к лицу, так сказать - фронтально.
поминках, все равно так или иначе сошла бы на нет, разумеется - в
пользу Тамары, ибо Яшка всегда относился к законной жене с легким
трепетом - она в полтора раза превышала его ростом, была русской и,
главное, являлась матерью любимой Яшкиной двенадцатилетней Регины,
нервной, дерганой девочки, которая подавала надежды превзойти
родителей в мере отпущенного ей таланта, а соответственно - и в силе
сопутствующих ему страданий. Вторая же проблема, неразрешимая...
вторая проблема была проблемою Родины.
не в Италию, а в Израиль, - уехать совсем не ради легкой жизни,
которой ни для себя, ни для Регины (о Тамаре он все же думал в
последнюю очередь) и не ждал, а ради некоего метафизического ощущения
воссоединения со своим незнакомым народом, ради счастья - как Якову
казалось - созидания Отчизны. Ему, пожалуй, удалось бы преодолеть
инерцию привычного быта, если бы не внезапная, неожиданная преграда,
оказавшаяся не по его зубам: дочка ехать категорически отказалась. Я,
говорила детским голоском, останусь здесь из-за русской половинки моей
крови, а когда соотечественники распнут меня за еврейскую, я
постараюсь обратить свою гибель во славу твоего, папочка, народа. Что
распнут, Регина не сомневалась ни капельки, и переубедить ее не
получалось ничем. То есть обстоятельства, которые разрешились для
Якова смертью, выходили сложнее, чем по светскому знакомству с Яковом
можно было предположить.
(Арсению точно было известно во всяком случае о ее романе с Пэдиком),
превратилась в удивительно скорбную и целомудренную вдову: мужа после
его смерти она полюбила куда сильнее и вернее, чем любила до, -
потому, надо полагать, что мертвых вообще любить много легче и
красиво. Не имеющая в жилах ни капли иудейской крови и всегда вполне
равнодушная к мужниным планам, которые просто не принимала всерьез,






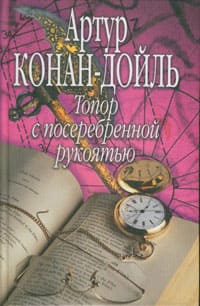 Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур Прозоров Александр
Прозоров Александр Флинт Эрик
Флинт Эрик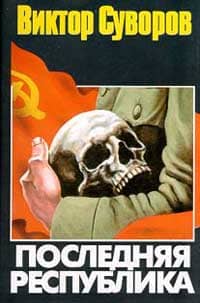 Суворов Виктор
Суворов Виктор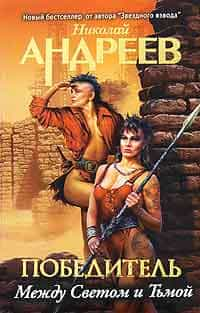 Андреев Николай
Андреев Николай Шилова Юлия
Шилова Юлия