Милан Кундера.
Невыносимая легкость бытия
прочих философов: представить только, что когда-нибудь повторится все
пережитое нами и что само повторение станет повторяться до бесконечности!
Что хочет поведать нам этот безумный миф?
что жизнь, которая исчезает однажды и навсегда, жизнь, которая не
повторяется, подобна тени, она без веса, она мертва наперед и как бы ни была
она страшна, прекрасна или возвышенна, этот ужас, возвышенность или красота
ровно ничего не значат. Мы должны воспринимать ее не иначе, как, скажем,
войну между двумя африканскими государствами в четырнадцатом столетии,
ничего не изменившую в облике мира, невзирая на то, что в ней погибло в
несказанных мучениях триста тысяч чернокожих.
столетии, повторяйся она бессчетное число раз в вечном возвращении?
и ее нелепость станет непоправимой.
французская историография куда меньше гордилась бы Робеспьером. Но поскольку
она повествует о том, что не возвращается, кровавые годы претворились в
простые слова, теории, дискуссии и, став легче пуха, уже не вселяют ужаса.
Есть бесконечная разница между Робеспьером, лишь однажды объявившимся в
истории, и Робеспьером, который вечно возвращался бы рубить французам
головы.
перспективу, из ее дали вещи предстают в ином, неведомом нам свете;
предстают без облегчающего обстоятельства своей быстротечности. Это
облегчающее обстоятельство и мешает нам вынести какой-либо приговор. Как
можно осудить то, что канет в Лету? Зори гибели озаряют очарованием
ностальгии все кругом; даже гильотину.
я растрогался при виде некоторых фотографий, они напомнили мне годы моего
детства; я прожил его в войну; многие мои родственники погибли в
гитлеровских концлагерях; но что была их смерть по сравнению с тем, что
фотография Гитлера напомнила мне об ушедшем времени моей жизни, о времени,
которое не повторится?
мира, по сути своей основанного на несуществовании возвращения, ибо в этом
мире все наперед прощено и, стало быть, все цинично дозволено.
прикованы к вечности, как Иисус Христос к кресту. Вообразить такое ужасно. В
мире вечного возвращения на всяком поступке лежит тяжесть невыносимой
ответственности. Это причина, по которой Ницше называл идею вечного
возвращения самым тяжким бременем (das schwerste Gewicht).
жизни могут предстать перед нами во всей своей восхитительной легкости. Но
действительно ли тяжесть ужасна, а легкость восхитительна? Самое тяжкое
бремя сокрушает нас, мы гнемся под ним, оно придавливает нас к земле. Но в
любовной лирике всех времен и народов женщина мечтает быть придавленной
тяжестью мужского тела. Стало быть, самое тяжкое бремя суть одновременно и
образ самого сочного наполнения жизни. Чем тяжелее бремя, тем наша жизнь
ближе к земле, тем она реальнее и правдивее.
делается легче воздуха, взмывает ввысь, удаляется от земли, от земного
бытия, становится полуреальным, и его движения столь же свободны, сколь и
бессмысленны.
веке до Рождества Христова задавал себе Парменид. Он видел весь мир
разделенным на пары противоположностей:
полюс противоположности был для него позитивным (свет, тепло, нежность,
бытие), другой негативным. Деление на полюс позитивный и негативный может
нам показаться по-детски простым. За исключением одного примера: что же
позитивно - тяжесть или легкость?
был или нет? Вот в чем вопрос. Несомненно одно: противоположность "тяжесть -
легкость" есть самая загадочная и самая многозначительная из всех
противоположностей.
его явственно. Увидел, как он стоит у окна своей квартиры, смотрит поверх
двора на стены супротивного дома и не знает, что делать.
городке. Едва ли час провели они вместе. Она проводила его на вокзал и
ждала, пока он не сел в поезд. Десятью днями позже она приехала к нему в
Прагу. Они познали друг друга еще в тот же день. Ночью начался у нее жар, и
затем она неделю пролежала в гриппе у него дома.
девушке; ему казалось, что это ребенок, которого положили в просмоленную
корзинку и пустили по реке, чтобы он выловил ее на берег своего ложа.
свой городок, что в двухстах километрах от Праги. И тут наступила та минута,
о которой я говорил и которая представляется мне ключом к его жизни: он
стоит у окна, смотрит поверх двора на стены супротивного дома и размышляет.
ответственности. Позови он ее сейчас, она приедет и предложит ему всю свою
жизнь.
официанткой в ресторане того захолустного городка, и он никогда не увидит
ее.
памяти никого из его прошлой жизни. Она не была ни возлюбленной, ни женой.
Это был ребенок, которого он вынул из просмоленной корзинки и опустил на
берег своего ложа. Она уснула. Он наклонился к ней. Ее горячечное дыхание
участилось, раздался слабенький стон. Он прижался лицом к ее лицу и стал
шептать ей в сон утешные слова. Вскоре он заметил, что ее дыхание
успокаивается, и ее лицо невольно приподнимается к его лицу. Он слышал из ее
рта нежное благоухание жара и вдыхал его, словно хотел наполниться
доверчивостью ее тела. И вдруг он представил, что она уже много лет у него и
что она умирает. Им сразу же овладело отчетливое ощущение, что смерти ее он
не вынесет. Ляжет возле и захочет умереть вместе с нею. Растроганный этим
воображаемым образом, он зарылся лицом в подушку рядом с ее головой и
оставался так долгое время.
быть еще, как не любовь, которая вот так пришла к нему заявить о себе?
явно преувеличенным: он тогда виделся с ней лишь второй раз в жизни! Уж не
истерия ли это человека, осознавшего свою неспособность к любви и потому
разыгравшего перед самим собой это чувство? К тому же его подсознание
оказалось столь малодушным, что избрало для своей комедии всего-навсего
жалкую официантку из захолустного городка, не имевшую почти никакого шанса
войти в его жизнь!
не знает, была ли это истерия или любовь.
сумел бы не мешкая действовать, он колеблется и лишает самые прекрасные
мгновения в жизни (он стоял на коленях у изголовья Терезы, и казалось ему,
что он не вынесет ее смерти) их значения.


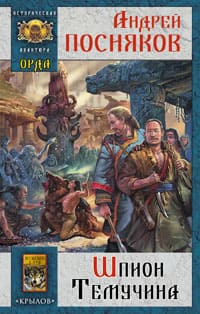

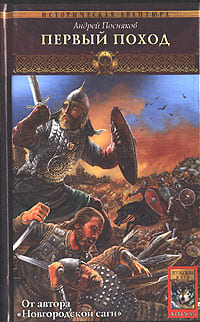

 Лукин Евгений
Лукин Евгений Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Пехов Алексей
Пехов Алексей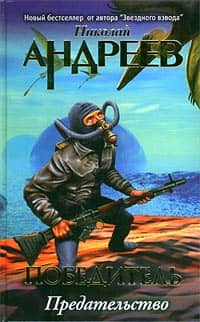 Андреев Николай
Андреев Николай Панов Вадим
Панов Вадим Самойлова Елена
Самойлова Елена