| АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ |
|
|
|
| АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ |
|
|
|
|
по-особенному относился. Мне Бонч рассказывал.
В заключение Бабель, обладавший редкой памятью, наизусть процитировал
пушкинского пашу из "Путешествия в Арзрум":
"Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт - брат дервишу. Он не имеет
ни отечества, ни благ земных; и между тем как мы, бедные, заботимся о славе,
о власти, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли, и ему
поклоняются", - и, натянув одеяло на лысину, мой попутчик мечтательно
вздохнул: - Поэзия!.. Поэты!..
Голова у него была круглая. Нос маленький, мягкий.
- Вы чудак, Бабель.
- Почему?
- Да ведь в вашей прозе гораздо больше поэзии, чем во многих, очень
многих стихах... Ну, скажем, в стихах Асеева. И, право, не меньше, чем у
Маяковского. Даже во "Флейтепозвоночнике". А это его самая поэтическая вещь.
Бабель от удовольствия даже сел.
- Вы это серьезно, Мариенгоф?
- Абсолютно.
Действительно, я ему не льстил, так как никогда, к сожалению, не умел
этого делать. А ведь лесть, даже глупая, так облегчает жизнь!
- Вы, Бабель, прекрасный писатель!
Для меня самого эти слова явились совершенно неожиданными. Даже
прекрасному поэту Есенину я ни разу в жизни не сказал, что он прекрасный
поэт.
- Спокойной ночи, брат дервиша.
Исаак Бабель тоже умер в сталинской каторжной тюрьме.
* * *
А вот анекдот:
- Вам не нравится Бабель? - спросили маршала Буденного.
- Смотря какая бабель, - ответил он.
Я очень люблю хорошие анекдоты.
И еще:
Бабель был так умен, что всегда после встречи с ним, казалось бы, ничем
не примечательной, я легко понимал: "Да, именно этот человек мог написать
"Конармию", написать "Закат", написать своего Беню Крика".
* * *
Так же, как и после встречи с Шостаковичем - за покерным столом или за
стопкой водки в Келломяжском шалмане, или за именинным пирогом у нас, или за
пельменями у него - словом, всегда я мысленно говорил себе: Да, именно этот
человек мог написать "Леди Макбет", "Пятую симфонию", "Седьмую симфонию" и
т, д. ".
А ведь бывает и по-другому. Раза три-четыре мне довелось разговаривать с
одним очень знаменитым артистом (Хмелевым). И всякий раз была в разговоре
тема: театр, пьеса, музыка, художники, политика. Однако потом, на улице, я
разводил руками: "Неужели это тот самый человек, который так замечательно
играет и то, и то, и то. Играет, черт побери, с божественной глубиной
Толстого, с чеховской тонкостью, с дьявольским умом Горького?.. Вот
подишь-ты!.. А сам..."
И опять разводил руками: "Откуда бы?.. Ничего не понимаю!"
* * *
Вот я и доигрываю свою последнюю сцену. Если бы в наши дни вдруг люди
стали говорить таким же высоким слогом, как Шекспир, то через несколько
реплик, как мне думается, должен прозвучать следующий диалог:
Гораций. Покойной ночи, милый друг. Пусть ангелы баюкают твой сон.
Мариенгоф. Ха-ха - ангелы! (Умирает.)
После этого с барабанным боем входит Фортинбрас (то есть секретарь по
административной части Союза советских писателей). Потом - траурный марш
и... труп уносят.
Очень смешно. Правда?
* * *
Когда женщина по-настоящему курит - папироса торчит у нее в углу рта
гораздо профессиональней, чем у мужчины. Она глубже затягивается. И гораздо
энергичней выпускает дым из ноздрей.
В этом, конечно, нет разврата. Но мне кажется, что-то говорит о
развратности таких женщин. Они сидят, обычно закинув ногу на ногу, и на их
колено можно положить руку с большей уверенностью.
Во время короткого расцвета бывшего Михайловского театра
(вторая половина двадцатых годов) там пошла первая опера
Шостаковича "Нос". Замечательная опера. Острая, дерзкая, по-гоголевски
гротесковая и новая в каждой своей музыкальной фразе. Успех у "Носа" был
необычайный. Но у немногих. А "болото", как ему - болоту - и полагается,
отвратительно заквакало всем своим внушительным лягушачьим хором.
Очень долго после этого Шостакович повторял:
- Тот, кто враг "Носа", - мой враг.
Я понимал Дмитрия Дмитриевича.
И сегодня - на пороге старости - скажу, как в юности:
- Тот, кто враг моей "Бессмертной трилогии" (то есть "Романа без вранья",
"Моего века..." и вот этой книги), - тот мой враг.
Правда, покамест врагов у последних двух вещей совсем мало. Пожалуй, одна
Вера Федоровна Панова. Ведь читают по рукописи, и только избранные. Чаще
всего, разумеется, избранные мной.
Панова прочла как редактор "Ленинградского альманаха".
Не желая показать свою совершенно нормальную трусость в этой должности,
она предпочла прикинуться дурой.
А это ей трудно.
* * *
Мне думается, что уйти из жизни (так же, как уйти из гостей) гораздо
лучше несколько раньше, чем несколько позже, когда ты уже всем здорово
надоел.
* * *
Шаляпин на редкость тонко понимал литературу. Вот он прочел
"Артамоновых", и что ему особенно понравилось у Горького:
"Березки стоят выгнанными из леса".
Это и вправду великолепно!
* * *
Сегодня на Невском проспекте меня оштрафовали на пять рублей за переход
улицы по кривой линии.
Я, конечно, обозлился, как обозлится почти всякий человек, даже
справедливо оштрафованный.
Однако через минуту, к удивлению милиционера, я громко рассмеялся. Мне
вспомнился Анатолий Васильевич Луначарский. На том же Невском, на том же
переходе, неподалеку от Европейской гостиницы, его тоже оштрафовал постовой
милиционер, но почему-то на десятку. В те годы портреты Анатолия Васильевича
уже не выставлялись в витринах, и для молодого работника рабоче-крестьянской
милиции он был, судя по рыжему меху в плешинах на воротнике длинной шубы,
судя по пенсне, по бородке и животу, просто старым человеком из "бывших"
бар.
- Черт их знает, - сказал мне Луначарский, - только бессмысленно
раздражают народ! Надо же все-таки соображать хоть немного. А вот они без
соображения!..
Говоря "их" и "они", Анатолий Васильевич меньше всего думал о
милиционерах. В ту достопамятную эпоху для большевика с 1903 года и
бессменного при Ленине народного комиссара просвещения слово "они"
относилось к Сталину и его правительству, называвшемуся "соратниками".
* * *
Я собирался на бал в женский институт. Белые лайковые перчатки,
попахивающие бензином, лежали на столике рядом с блестящими, туго
накрахмаленными манжетами. Носовой платок уже был надушен. Тетя Нина до
сияния начистила плоские золотые пуговицы на моем двубортном черном мундире
с высоким красным воротником.
- Когда, дружок, ты был совсем маленький, - сказала тетя Нина, - и к вам
в дом приходил чужой человек, ты, шаркнув ножкой, сразу его спрашивал:
"Скажите, пожалуйста, сколько вам лет?"
- Дамам я тоже задавал этот глупый вопрос?
- Нет, дружок, дамы тогда тебя еще не интересовали.
О, это все было не так просто, как предполагала тетя Нина! Дело в том,
что дети начинают размышлять о жизни человека гораздо раньше, чем это думают
родители. В десять лет я говорил себе:
- Не хочу жить стариком. И не буду, не буду! Обязательно умру красивым. В
двадцать пять лет.
Тридцатилетние мужчины казались мне стариками.
Срок исчезновения из этого мира постепенно отодвигался.
Когда мне самому стукнуло четверть века, я уже заявлял приятелям:
- Дотяну до сорока пяти и баста! Пуля в лоб!..
У меня было брезгливое отношение к старости.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [ 113 ] 114 115
|
|






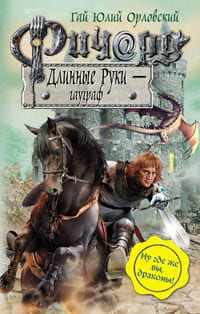 Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий Акунин Борис
Акунин Борис Пехов Алексей
Пехов Алексей Шилова Юлия
Шилова Юлия Мацумото Сэйте
Мацумото Сэйте Посняков Андрей
Посняков Андрей