фореггеровского "Московского балагана".
ели нежное мясо жеребят.
- хлюпает ими и шаркает. В ноги посмотришь - человек почтенного возраста.
Ничто так не старит, как наша российская калоша. Влез в калошу и будто
прибавил в весе и характером стал положителен.
писателей.
газете "Советская страна" только что появился манифест, подписанный
Есениным, Шершеневичем, Рюриком Ивневым и мной.
остроумных мемуарах разговор с Иоффе в Брест-Литовске во время мирных
переговоров. " - В случае, если революция в России будет сопровождаться
успехом, - говорил дипломат императора Карла, - то Европа сама не замедлит
присоединиться к ее образу мыслей. Но пока уместен самый большой скептицизм,
и поэтому я категорически запрещаю всякое вмешательство во внутренние дела
нашей страны.
глазами, а потом произнес дружественным и почти просящим тоном:
спичка, зажженная о подошву, а Петр Орешин не пожалел ни "родителей", ни
"душу", ни "Бога", Есенин, молча отшагав квартал по Тверской, сказал:
зависть свою жрал... Ну и стали, как псы, которым хвосты рубят, чтобы за
ляжки кусали...
за мной пойдут... подтявкивать будут.
пименовскому чета и желчь не орешинская.
буквы. Желтел, молчал, супил брови и в гармошку собирал кожу на лбу.
фразу, вертя ее разными сторонами и на всякий манер, словно тифлисский
духанщик над огнем деревянные палочки с кусками молодого барана. Выволакивал
из темных уголков памяти то самое, от чего должен был так же пожелтеть
Миколушка, как пожелтел сейчас Миколушкин "сокол ясный".
попечительствующие словеса Клюева.
"меньшим клюевским братом". А Есенин ухе твердо стоял в литературе на своих
собственных ногах, говорил своим голосом и носил свою есенинскую "рубашку"
(так любил называть он стихотворную форму).
рассыпать набор своего старого стихотворения с такими двумя строками:
книжная лавочка и "Стойло Пегаса".
Московский Совет.
как-никак, а связано с ними и немало наших дней, мыслей, смеха и огорчений.
пятнающих, но и не льстивых. Только холодная, чужая рука предпочтет белила и
румяна остальным краскам.
его смыслу.
вылизало время прекраснейшие метафорические фигуры, на других - звуковой
образ, на третьих - мысль, тонкую и насмешливую.
к тому, что надобно человека обхаживать.
Малкин До революции он редактировал в Пензе оппозиционную газетку
"Чернозем". Помнится, очень меня обласкал, когда я, будучи гимназистом,
притащил к нему тетрадочку своих стихов.
Федорович был главным покупателем, оптовым.
заказе подпись заведующего. А тогда уже были мы Малкину со своими книгами
что колики под ребро. Одного слова "имажинист" пугались, а не только что
наших книг.
Федоровича я не видел других глаз) и, увлекаясь, что-то рассказывает про
свои центропечатские дела. Есенин поддакивает и восторгается. Чем дальше,
тем больше. И наконец, весьма хитро придя в совершеннейший восторг от
административного гения Малкина, восклицает:
пожалуют!
человека в рождественскую елку.
в памяти на подходящие случаи жизни. А так как случаев подобных, благодаря
многочисленным нашим "предприятиям", представлялось немало, то и раздача
есенинских медалей шла бойко.
сказал сердито Есенину:
какой-то месяц ты Борису Федоровичу третью штуку жалуешь.
разрубленную пополам - в ту и другую сторону по крылу. Когда, сердясь,
сдвигал брови - срасталась широко разрубленная темная птица.
книжную лавку, Есенин с Каменевым говорил на олонецкий, клюевский манер,
округляя "о" и по-мужицки на "ты":
Рязанской губернии) относился Есенин с отдышкой от самого живота, как от
тяжелой клади.
Никогда по своему почину, а только - после настойчивых писем, жалоб и
уговоров.
про плохую картошку, сгнившее сено. Крутил реденькую конопляную бородку и
вытирал грязной тряпицей слезящиеся красные глаза. Есенин слушал речи отца
недоверчиво, напоминал про дождливое лето и жаркие солнечные дни во время
сенокоса, о картошке, которая почемуто у всех уродилась, кроме его отца, об
урожае Рязанской губернии, не ахти плохом. Чем больше вспоминал, тем больше
сердился:
о мошне, а не по мне.
которому локомотивом отрезало ногу. Несут того в приемный покой, кровь льет
- страшное дело, а он все просит, чтобы ногу его отыскали, и беспокоится,
как бы в сапоге, на отрезанной ноге, не пропали спрятанные двадцать рублей.
подбородке реденькую размохрявленную рогожку и молчал.
учиться или нет. Склонялся к тому, чтобы сейчас погодить, а может быть, и
насовсем оставить в деревне. Пытался в этом добросовестно убедить себя.
Выдумывал доводы, в которые сам же не верил. Разводил философию по
гамсуновскому "Пану" о счастии на природе и с землей, о том, что мало-де


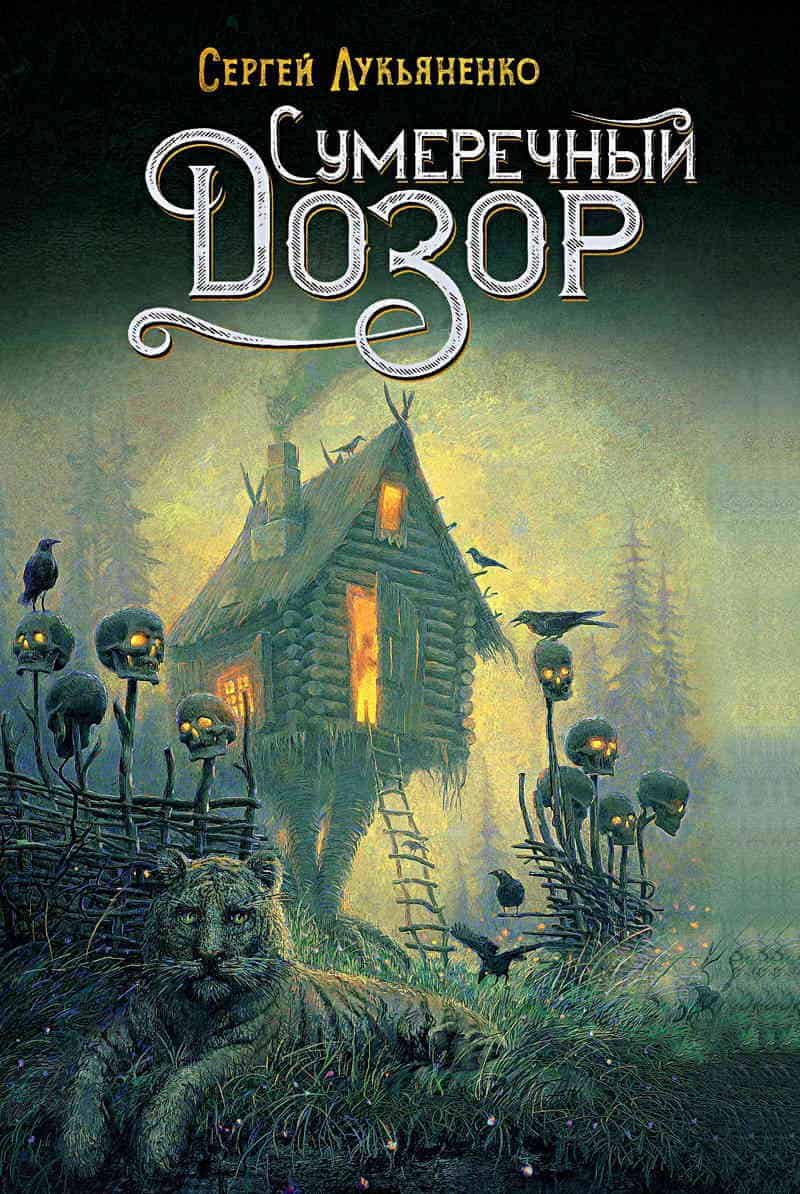



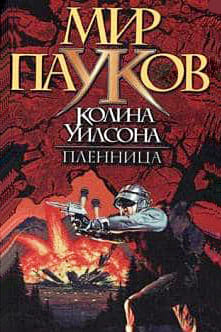 Прозоров Александр
Прозоров Александр Пехов Алексей
Пехов Алексей Березин Федор
Березин Федор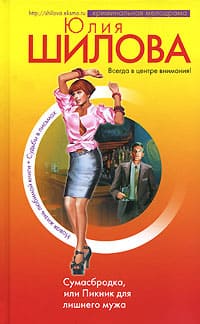 Шилова Юлия
Шилова Юлия Флинт Эрик
Флинт Эрик Шилова Юлия
Шилова Юлия