| АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ |
|
|
|
| АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ |
|
|
|
|
шею чугунному Пушкину плакат: "Я с имажинистами".
В СОПО читал доклады по мордографии, карандашом доказывал сходство всех
имажинистов с лошадьми: Есенин - вятка, Шершеневич - орловский, я - гунтер.
Глаз у Дида был верный.
Есенина в домашнем быту так и звали мы - Вяткой.
- Дид, возьми нас с собой.
- Без шапок-то?..
- А на кой они черт!
Если самому "восемнадцать", то чего возражать?
- Деньжонки-то есть?..
- Не в Америку едем.
- Валяй садись.
Поехали к Николаевскому вокзалу.
На платформе около своего отдельного пульмановского вагона стоял
комиссар.
Глаза у комиссара круглые и холодные, как серебряные рубли. Голова тоже
круглая, без единого волоска, ярко-красного цвета.
Я шепнул Диду на ухо:
- Эх, не возьмет нас "свекла"!
А Есенин уже ощупывал его пистолетину, вел разговор о преимуществе кольта
над наганом, восхищался сталью кавказской шашки и малиновым звоном шпор.
Один кинорежиссер ставил картину из еврейской жизни. В последней части в
сцене погрома должен был на крупном плане плакать горькими слезами малыш лет
двух. Режиссер нашел очаровательного мальчугана с золотыми кудряшками.
Началась съемка. Вспыхнули юпитеры. Почти всегда дети, пугаясь сильного
света, шипения, черного глаза аппарата и чужих "дядей", начинают плакать. А
этому хоть бы что: мордашка веселая, и смеется во все горлышко. Пробовали и
то и се - малыш ни в какую. У оператора опустились руки. Тогда мать
неунывающего малыша научила расстроенного режиссера:
- Вы, товарищ, скажите ему: "Мойшенька, сними башмачки!" Очень он этого
не любит и всегда плачет.
Режиссер сказал - и павильон огласился пронзительным писком. Ручьем
полились горькие слезы. Оператор завертел ручку аппарата.
Вот и Есенин, подобно той матери, замечательно знал для каждого секрет
"мойшенькиных башмачков": чем расположить к себе, повернуть сердце, вынуть
душу.
Отсюда его огромное обаяние.
Обычно любят - за любовь. Есенин никого не любил, и все любили Есенина.
Конечно, комиссар взял нас в свой вагон, конечно, мы поехали в Петербург,
и спали на красном бархате, и пили кавказское вино хозяина вагона.
В Петербурге весь первый день бегали по издательствам Во "Всемирной
литературе" Есенин познакомил меня с Блоком. Блок понравился своею
обыкновенностью. Он был бы очень хорош в советском департаменте над синей
канцелярской бумагой, над маленькими нечаянными радостями дня, над большими
входящими и исходящими книгами.
В этом много чистоты и большая человеческая правда.
На второй день в Петербурге пошел дождь.
Мой пробор блестел, словно крышка рояля. Есенинская золотая голова
побурела, а кудри свисали жалкими писарскими запятыми. Он был огорчен до
последней степени.
Бегали из магазина в магазин, умоляя продать нам "без ордера" шляпу.
В магазине, по счету десятом, краснощекий немец за кассой сказал:
- Без ордера могу отпустить вам только цилиндры.
Мы, невероятно обрадованные, благодарно жали немцу пухлую руку.
А через пять минут на Невском призрачные петербуржане вылупляли на нас
глаза, "ирисники" гоготали вслед, а пораженный милиционер потребовал
документы.
Вот правдивая история появления на свет легендарных и единственных в
революции цилиндров, прославленных молвой и воспетых поэтами.
13
К осени стали жить в бахрушинском доме. Пустил нас на квартиру Карп
Карпович Коротков - поэт, малоизвестный читателю, но пользующийся громкой
славой у нашего брата.
Карп Карпович был сыном богатых мануфактурщиков, но еще до революции от
родительского дома отошел и пристрастился к прекрасным искусствам.
Выпустил он за короткий срок книг тридцать, прославившихся беспримерным
отсутствием на них покупателя и своими восточными ударениями в русских
словах.
Тем не менее расходились книги довольно быстро, благодаря той неописуемой
энергии, с какой раздавал их со своими автографами Карп Карпович!
Один веселый человек пообещал даже два фунта малороссийского сала
оригиналу, у которого бы оказалась книга Карна Карповича без дарственной
надписи.
Риск был немалый.
В девятнадцатом году не только ради сала, но и за желтую пшенку неделями
кормили собой вшей в ледяных вагонах.
И все же пришлось веселому человеку самому съесть свое сало.
Комната у нас была большая, хорошая.
14
Силы такой не найти, которая б вытрясла из нас, россиян, губительную
склонность к искусствам: ни тифозная вошь, ни уездные кисельные грязи по
щиколотку, ни бессортирье, ни война, ни революция, ни пустое брюхо.
Можно сказать, тонкие натуры.
Возвращаюсь поздней ночью от приятеля. В небе висит туча вроде дачного
железного рукомойника с испорченным краном - льет проклятый дождь без
передыха, без роздыха.
Тротуары Тверской - черные, лоснящиеся. Совсем как мой цилиндр.
Собираюсь свернуть в Козицкий переулок. Вдруг с противоположной стороны
слышу:
- Иностранец, стой!
Смутил простаков цилиндр и деллосовское широкое пальто.
Человек пять отделилось от стены.
ЖДУ.
- Гражданин иностранец, ваше удостоверение личности!
На голой кляче ковылял извозчик по расковыренной мостовой. Глянул в нашу
сторону - и ну нахлестывать своего буцефала. А тот не будь дурак - стриканул
карьером. У кафе "Лира" подремывал сторож. Смотрю - шмыг он в переулочек, -
и будьте здоровы!
Ни живой души. Ни бездомного пса. Ни тусклого фонаря.
Спрашиваю:
- По какому, товарищи, праву вы требуете у меня документ? Ваш мандат.
- Мандат?..
И парень в студенческой фуражке и с лицом, помятым, как не взбитая после
ночи подушка, помахал перед моим носом пистолетиной:
- Вот вам, гражданин, и мандат!
- Может быть, от меня требуется не удостоверение личности, а пальто?
- Слава тебе Господи... догадался.
И, слегка помогая разоблачаться, парень с помятой физиономией стал сзади
меня, как швейцар в хорошей гостинице.
Я пробовал шутить. Но было не очень весело. Пальто только что сшил.
Хороший фасон и добротный английский драп.
Помятая физиономия смотрела на меня меланхолически.
И когда с полной безнадежностью я уже вылезал из рукавов, на выручку мне
пришла та самая, не имеющая пределов любовь россиян к искусству.
Один из теплой компании, пристально вглядевшись в мое лицо, спросил:
- А как, гражданин, будет ваша фамилия?
- Мариенгоф...
- Анатолий Мариенгоф?..
Приятно пораженный обширностью своей славы, я повторил с гордостью:
- Анатолий Мариенгоф!
- Автор "Магдалины"?
В этот счастливый и волшебнейший момент моей жизни я не только готов был
отдать им деллосовское пальто, но и добровольно приложить брюки, лаковые
ботинки, шелковые носки и носовой платок.
Пусть дождь! Пусть не совсем принято возвращаться домой в подштанниках!
Пусть нарушено равновесие нашего бюджета! пусть! тысяча раз пусть! - но зато
какая сложная, лакомая и обильная жратва для честолюбия - этого прожорливого
Фальстафа, которого мы носим в своей душе!
Должен ли я говорить, что ночные знакомцы не тронули моего пальто, что
главарь, обнаруживший во мне Мариенгофа, рассыпался в извинениях, что они
любезно проводили меня до дому, что, прощаясь, я крепко жал им руки и
приглашал в "Стоило Пегаса" послушать мои новые вещи.
А спустя два дня - еще одно подтверждение тонкости расейских натур.
Есенин зашел к сапожнику. Надо было положить новые подметки.
Сапожник сказал божескую цену. Есенин не торгуясь оставляет адрес, куда
доставить: "Богословский, 3,46 - Есенину".
Сапожник всплескивает руками:
- Есенину!
И в восторженном порыве сбавляет цену наполовину.
А вот из истории: правда, ситуация несколько иная, но тоже весьма
примечательная.
1917 год. В Гатчине генерал Краснов, командующий войсками Керенского,
заключает бесславное для себя соглашение с большевистскими отрядами.
Входят адъютант Керенского и Лев Давидович Троцкий. Вслед за ними
казачонок с винтовкой, казачонок уцепился за рукав Троцкого и не выпускает
его.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 [ 7 ] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
|
|


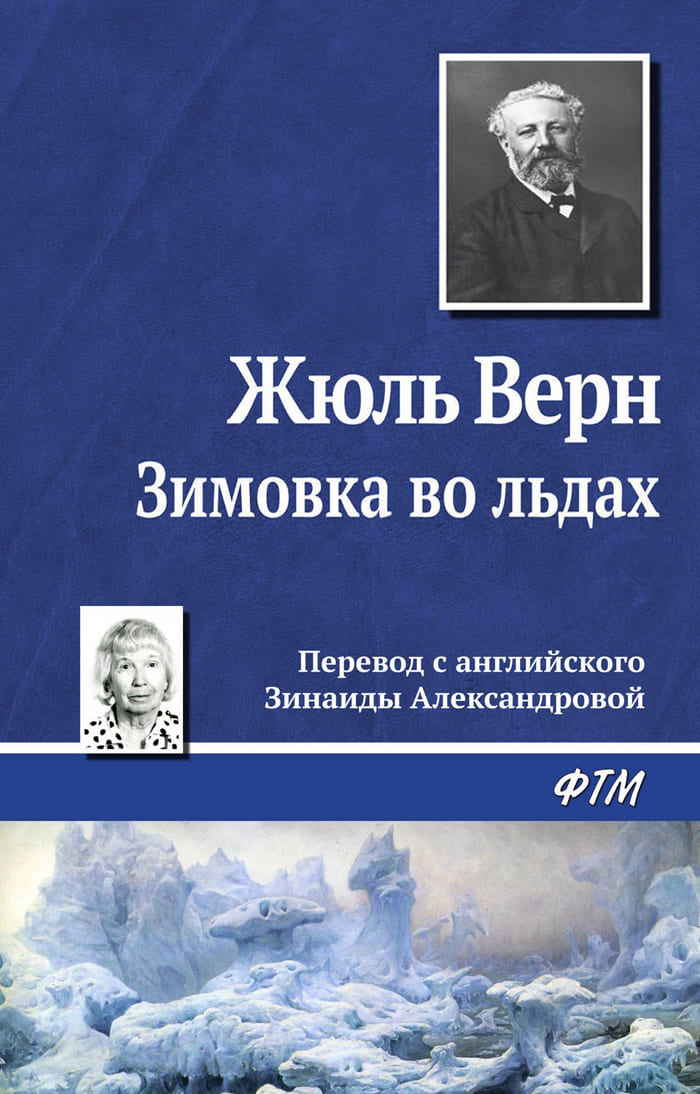
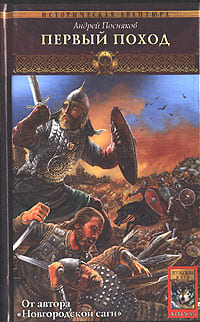
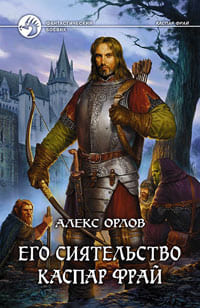
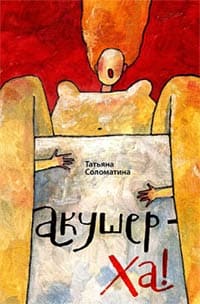
 Посняков Андрей
Посняков Андрей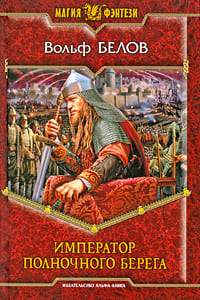 Белов Вольф
Белов Вольф Березин Федор
Березин Федор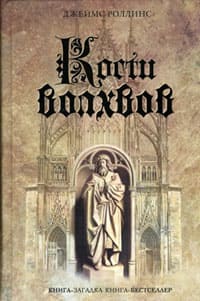 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Шилова Юлия
Шилова Юлия Акунин Борис
Акунин Борис