однажды во время первого январского снегопада. Но среди этих и
множества других воспоминаний у доктора Хувеналя Урбино было и
еще одно - и он всегда сожалел, что не разделил его со своей
супругой, ибо случилось оно в те времена, когда он жил еще
одиноким студентом в Париже. То было воспоминание о Викторе
Гюго: его необычайная слава выходила за пределы его книг, и
даже говорили, что он однажды сказал, хотя и неизвестно, кто
это слышал, что наша Конституция написана не для людей, а для
ангелов. С той поры ему воздавались особые почести, и
большинство многочисленных соотечественников доктора Урбино,
попав в Париж, из кожи лезли вон, лишь бы увидеть его.
Полдюжины студентов, и среди них Хувеналь Урбино, установили
караул напротив его резиденции на улице Эйлу и в кафе, куда,
говорили, он обязательно должен зайти, но никогда не заходил,
и, в конце концов, написали ему, прося аудиенции от имени
ангелов, для которых была написана Конституция Рионегро. Ответа
они не получили. Как-то однажды Хувеналь Урбино проходил мимо
Люксембургского сада и увидел его выходившим из Сената, молодая
женщина вела его под руку. Он показался Хувеналю Урбино очень
старым: двигался с трудом, волосы и борода не так сверкали, как
на портретах, а пальто висело на нем, словно с чужого плеча.
Хувеналю Урбино не захотелось портить создавшегося образа
неуместным приветствием: ему на всю жизнь хватило этого
мимолетного, почти нереального видения. А когда он снова
вернулся в Париж, уже женатым, и с новыми своими возможностями
и положением мог бы увидеть Виктора Гюго в иной ситуации, -
того уже не было на свете.
воспоминание: в один прекрасный снежный день их заинтересовала
группка людей, отважно стоявшая, невзирая на снежную метель,
перед маленькой книжной лавкой на бульваре Капуцинов:
оказывается, в лавке в это время находился Оскар Уайльд. Когда
же он наконец вышел, действительно элегантный, правда, может
быть, чересчур сознающий это, группка окружила его, прося
автографа на его книгах. Доктор Урбино остановился только
затем, чтобы посмотреть, но его импульсивная жена захотела
перейти через улицу, чтобы писатель поставил свой автограф на
единственном, что казалось ей подходящим за неимением книги, -
на прелестной перчатке из кожи газели, длинной, мягкой и
гладкой, и того же цвета, что и рука самой новобрачной. Она
была уверена, что такой утонченный человек способен оценить ее
жест. Но муж воспротивился, и когда она вопреки его доводам все
же попыталась поступить по-своему, он' понял, что будет не в
силах перенести этот позор.
возвратившись, найдешь меня мертвым.
она держалась так же непринужденно и свободно, как девочкой в
Сан-Хуан-де-ла-Сьенаге, когда она все будто знала от рождения:
с необычайной легкостью общалась с совершенно незнакомыми
людьми, что приводило в смущение ее мужа, и обладала
таинственным даром объясняться по-испански с кем угодно и где
угодно. "Языки надо знать тем, кто продает, - говорила она со
смехом. - А тех, кто покупает, понимают без слов, кем бы они ни
были". Трудно представить себе, кто бы еще так быстро и с таким
удовольствием воспринял повседневную парижскую жизнь, кто бы
сумел потом в воспоминаниях так полюбить ее, несмотря на
непрерывные дожди. И тем не менее, когда она вернулась домой,
под гнетом стольких пережитых вместе впечатлений, уставшая от
путешествия и полусонная от беременности, первое, о чем ее
спросили еще в порту, было - как ей понравились чудеса Европы,
и она подвела итог своим счастливым шестнадцати месяцам в
четырех исконно карибских словах: - Ничего особенного, одна
суетня.
паперти собора, беременную, на седьмом месяце, полностью
вошедшую в новую роль светской женщины, он принял жестокое
решение: он завоюет состояние и имя, дабы стать достойным ее.
Его ни на секунду не смутила та досадная неловкость, что она
была замужем, поскольку одновременно с главным решением он еще
решил, словно это зависело от него, что доктор Хувеналь Урбино
должен умереть. Он не знал, каким образом он умрет и когда,
однако рассчитывал на это обстоятельство и был намерен ждать
спокойно, без спешки, хоть до скончания века.
в контору к дядюшке Леону XII, президенту правления и
генеральному директору Карибского речного пароходства, и заявил
ему о своем намерении отдать себя в полное его распоряжение.
прекрасной должностью телеграфиста в Вильа-де-Лейве, однако
позволил убедить себя в том, что человек не рождается раз и
навсегда в тот день, когда мать производит его на свет, но что
жизнь заставляет его снова и снова - много раз - родиться
заново самому. Кроме того, вдова его брата умерла год назад,
умерла, сгорая от злобы, но не оставив наследников. И потому он
дал должность блудному племяннику.
жестким панцирем бездушного дельца таился гениальный мечтатель,
который был способен открыть фонтан из лимонада посреди пустыни
Гуахира, или на погребении исторгнуть душераздирающий плач "В
сей темной могиле". Он был кудрявый и толстогубый, точно фавн,
но дай ему лиру в руки и лавровый венок на голову, и он был бы
вылитый поджигатель Нерон, каким его живописует христианская
мифология. Часы, свободные от управления своим хозяйством,
которое состояло из обветшавших судов, державшихся на плаву
исключительно благодаря недосмотру судьбы, и решения все более
обострявшихся проблем речного судоходства он посвящал
обогащению своего лирического репертуара. Ничто не доставляло
ему такого удовольствия, как петь на похоронах. У него был
голос галерника, не поставленный, однако впечатлявший силой и
диапазоном. Кто-то рассказал ему, что Энрико Карузо мощью
своего голоса разбивал вдребезги цветочные вазы, и он год за
годом пытался достичь высот Карузо, упражняясь на оконных
стеклах. Друзья привозили ему из заграничных странствий самые
хрупкие вазы и устраивали специальные празднества, дабы он в
конце концов достиг вершины своих мечтаний. Он не достиг.
Однако в глубинах его громогласия мерцал лучик нежности, от
которой сердца слушателей давали трещину подобно стеклянным
вазам великого Карузо, и именно потому его так ценили на
погребальных церемониях. Только однажды случился сбой, когда
ему взбрело в голову запеть "Когда восстанешь во славе",
луизианское погребальное песнопение, красивое и проникновенное,
и капеллан заставил его замолчать, не поняв, чего ради в его
церкви завели лютеранскую песню.
предпринимательский дух крепли и развивались в звучных руладах
оперных арий и неаполитанских серенад и сделали его одним из
самых блистательных представителей речного пароходства того
времени. Он вышел из ничего, как оба его теперь уже покойные
брата, и все поднялись до той высоты, о которой мечтали,
несмотря на позорное клеймо -все они были детьми внебрачными и
вдобавок официально не признанными. Это была, как выражались в
те времена, аристократия ресторанной стойки, а их храмом был
коммерческий клуб. Однако, уже располагая средствами,
позволявшими ему жить как римский император, на которого он
походил, дядюшка Леон XII оставался в старом городе, потому что
так ему было удобнее для работы, и вместе со своей супругой и
тремя детьми вел такую суровую жизнь в таком скромном доме, что
до конца своих дней не избавился от несправедливой репутации
скупца. Единственная роскошь, которую он себе позволил, была
совсем скромной: дом у моря в двух лигах от конторы, с мебелью
из шести табуретов кустарной работы, подставки для глиняных
кувшинов и с гамаком, подвешенным на террасе, чтобы лежать в
нем по воскресеньям и размышлять. Никто не определил его лучше,
чем он сам один раз в ответ на обвинения, что он, мол, богач.
это не одно и то же.
восславил в спиче, назвав многомудрой глупостью, позволил ему
вмиг разглядеть то, что никто кроме него не увидел во
Флорентино Арисе - ни раньше, ни потом. С того дня, как тот
явился просить место в его конторах, представ перед ним с
похоронным видом в свои двадцать семь бесполезно прожитых лет,
дядюшка, не уставая, подвергал его суровым испытаниям почти
казарменного режима, способного сломить самого несгибаемого. Но
не сумел его запугать. Дядюшка Леон XII и не подозревал, что
стойкость племянника происходила не из необходимости заработать
на жизнь и не из унаследованного от отца ослиного упорства, но
от такой жажды любви, которую не способны были поколебать
никакие трудности на этом или на том свете.




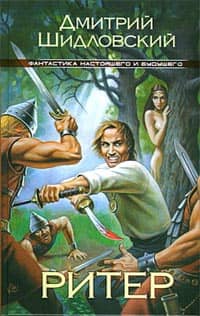

 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс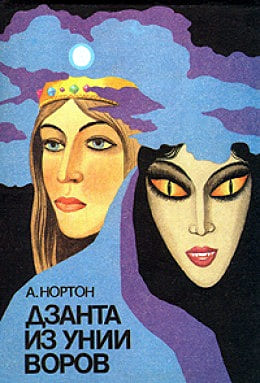 Нортон Андрэ
Нортон Андрэ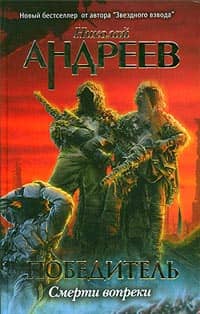 Андреев Николай
Андреев Николай Куликов Роман
Куликов Роман Верещагин Олег
Верещагин Олег Березин Федор
Березин Федор