камелией в петлице, трепетавшей на его взволнованной груди,
Флорентино Ариса в ночь первого конкурса смотрел на Фермину
Дасу, вскрывавшую три запечатанных сургучом конверта на сцене
старинного Национального театра. И думал о том, что произойдет
в ее сердце, когда она обнаружит, что он завоевал Золотую
орхидею. Он был уверен, что она узнает его почерк и сразу же
вспомнит, как под вечер вышивала под миндалевым деревом в
маленьком парке, вспомнит запах засушенных в письмах гардений и
вальс Коронованной Богини, который он исполнял для нее одной в
предутреннем ветерке. Но этого не случилось. Хуже того: Золотая
орхидея, самый завидный приз национальной поэзии, была
присуждена иммигранту-китайцу. Столь необычное решение вызвало
такой общественный скандал, что поставило под сомнение
серьезность самого мероприятия. Однако оправданием единодушному
решению жюри был превосходный сонет.
премированный китаец. Он прибыл сюда в конце прошлого столетия,
спасаясь от бедствия - желтой лихорадки, опустошившей Панаму за
время строительства железнодорожного пути между двумя океанами,
прибыл вместе со многими другими, которые остались здесь до
конца жизни и продолжали жить по-китайски, размножаться
по-китайски и так походили друг на друга, что невозможно
различить. Сначала их насчитывалось десяток, не больше, они
появились вместе со своими женами, детьми и собаками, которых
употребляли в пищу, но уже через несколько лет они заполонили
четыре улочки в предместье рядом с портом, - все новые и новые
китайцы наводняли страну, не оставляя никаких следов в
регистрационных таможенных списках. Некоторые, совсем еще
недавно молодые китайцы, так стремительно превращались в
почитаемых патриархов, что невозможно было понять, когда они
успевали стариться. Народная интуиция разделила их на два
класса: китайцы плохие и китайцы хорошие. Плохие- те, что
сшивались в мрачных постоялых дворах вокруг порта, и случалось,
какой-нибудь китаец объедался там по-царски или умирал прямо за
столом, над варевом из крысы на постном масле; про эти
постоялые дворы ходили слухи, что на самом деле там торгуют
женщинами и продается и покупается все, что угодно. Хорошими
были китайцы из прачечных, наследовавшие священные знания, они
возвращали рубашки еще более чистыми, чем новые, с воротничками
и манжетами, похожими на выглаженную церковную облатку. Именно
из хороших китайцев был тот, который на Цветочных играх разбил
наголову семьдесят двух своих гораздо лучше оснащенных
соперников.
замешательстве прочитала его. И не потому, что это было
необычное имя, но просто никто и никогда в точности не знал,
как зовут китайцев. Однако долго раздумывать не пришлось,
потому что премированный китаец тотчас же возник из недр
партера с ангельской улыбочкой, которая всегда бывает у
китайцев, когда они рано приходят домой. Он был так уверен в
победе, что заранее в честь нее надел обрядо вую весеннюю
рубашку из желтого шелка. Он получил Золотую орхидею на
восемнадцать каратов и, счастливый, поцеловал ее под
оглушительные насмешки неверящих зрителей. И бровью не повел.
Он стоял и ждал посреди сцены, невозмутимый, словно сам апостол
Божественного провидения, и, едва наступила тишина, прочел
премированное стихотворение. Его никто не понял. Но когда новая
волна насмешек схлынула, Фермина Даса прочитала стихотворение
еще раз, тихим, мягким голосом, и первая же строфа ошеломила
слушателей. Сонет, написанный в чистейшем парнасском стиле, был
совершенен и овеян вдохновением, которое выдавало участие
мастерской руки. Объяснение напрашивалось только одно: какой-то
большой поэт задумал эту шутку в насмешку над Цветочными
играми, а китайца взяли на эту роль с условием до конца жизни
хранить тайну. "Диарио дель комерсио", наша традиционная
газета, попыталась выправить положение с помощью заумной статьи
насчет давнего присутствия китайцев в карибских странах и их
культурного влияния, а следовательно, и права на участие в
Цветочных играх. Написавший статью был уверен, что автором
сонета на самом деле был тот, кто назвался автором, и ничтоже
сумняшеся утверждал это, начиная с заглавия: "Все китайцы -
поэты". Затейники, если и вправду имела место затея, в конце
концов сгнили в могилах вместе со своей тайной. Премированный
китаец же умер без исповеди в подобающем восточному человеку
возрасте, был положен в гроб вместе с Золотой орхидеей и
похоронен, так и не изжив горечи по поводу того, что не достиг
в жизни единственного, о чем мечтал: репутации поэта. В связи с
его смертью в печати снова вспомнили забытый эпизод Цветочных
игр и снова напечатали сонет с модернистской виньеткой,
изображавшей пышных дев с золотым рогом изобилия, и боги,
хранители поэзии, воспользовавшись случаем, расставили все по
местам - новому поколению сонет показался настолько плохим, что
никто больше не сомневался: автором был покойный китаец.
незнакомой толстушкой, сидевшей рядом с ним. Он заметил ее в
самом начале церемонии, а потом, объятый страхом ожидания,
совершенно забыл о ней. Внимание привлекла перламутровая
белизна ее кожи, благоухание, исходившее от ее счастливого
полного тела, огромная грудь, как у обладательницы мощного
сопрано, увенчанная искусственной магнолией. На ней было черное
бархатное, очень облегающее платье, такое же черное, как ее
жаркие, алкающие глаза и волосы, подобранные на затылке
цыганским гребнем. Висячие серьги, ожерелье и множество колец
на пальцах, все, как одно, со сверкающими искусственными
камнями, а на правой щеке - нарисованная мушка. В суматохе
финальных аплодисментов она поглядела на Флорентино Арису с
искренней душевной грустью.
которые и вправду заслуживал, а тем, что кто-то, оказывается,
знал его тайну. Она объяснила: "Я видела, как дрожал цветок у
вас в петлице, когда вскрывали конверты". Она показала ему
плюшевую магнолию, которую держала в руке, и открылась: -
Поэтому я сняла свой цветок. Она готова была расплакаться, но
Флорентино Ариса, ночной охотник, смягчил ей горечь поражения.
обезлюдевшую полуночную улицу, он стал уговаривать ее
пригласить его на рюмочку бренди и заодно показать свои альбомы
с вырезками и фотографиями о последних десятилетиях жизни
города, которые, как она говорила, у нее имеются. Это был
старый трюк, но на этот раз все вышло непроизвольно, потому что
она сама рассказала ему об этих альбомах, пока они шли от
Национального театра. Они вошли в дом. Первое, что увидел
Флорентино Ариса еще из гостиной, была распахнутая дверь в
спальню с широкой пышной постелью под парчовым покрывалом и
изголовьем, украшенным бронзовыми листьями папоротника. Эта
картина привела его в замешательство. Она, по-видимому,
заметила, потому что прошла через гостиную и закрыла дверь в
спальню. Потом пригласила его сесть на канапе, обитое кретоном
в цветочек, где уже спал кот, и выложила на стоящий в центре
комнаты стол свою коллекцию альбомов. Флорентино Ариса принялся
не спеша листать их, гораздо больше думая о том, каким будет
его следующий шаг, чем о том, что представало его взору. Но
вдруг поднял взгляд над страницей и увидел глаза, полные слез.
Он посоветовал ей не стесняться и выплакаться, ибо ничто не
приносит такого облегчения, как слезы, и заметил, что,
наверное, корсет помешает ей плакать. И поспешил помочь, потому
что корсет был туго затянут на спине шнуровкой. Он не успел
распустить его, как корсет сам раскрылся под внутренним
напором, и астрономически необозримая грудь вздохнула во всю
свою ширь.
первым разом, даже в самых легких случаях, отважился чуть
погладить кончиками пальцев ее шею, и она, не переставая
плакать, изогнулась со стоном, точно избалованный ребенок.
Тогда он очень нежно поцеловал ее в то же самое место, которое
только что гладил кончиками пальцев, но второй раз поцеловать
ее не удалось, потому что она повернулась к нему всем своим
монументальным телом, жарким и алчущим, и они, сплетясь в
объятии, покатились по полу. Кот проснулся и с визгом прыгнул
на них. Словно неопытные новички, они торопливо искали друг
друга, барахтаясь среди рассыпавшихся альбомов, повлажневшей от
пота одежды, гораздо больше заботясь о том, как уклониться от
кошачьих когтей, чем от превратностей любовного беспорядка. На
следующую ночь, с не зажившими еще кошачьими царапинами, они
повторили все сначала, и потом занимались этим не один год.
Когда он понял, что начинает ее любить, она была в расцвете
сорока, а он приближался к своему тридцатилетию. Ее звали Сара
Норьега, и в юности ей выпало пятнадцать минут славы, когда она


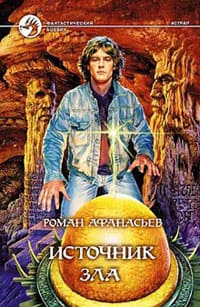



 Шилова Юлия
Шилова Юлия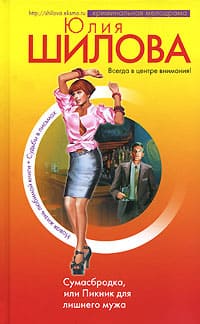 Шилова Юлия
Шилова Юлия Каменистый Артем
Каменистый Артем Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк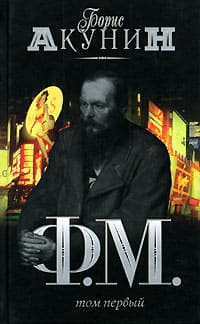 Акунин Борис
Акунин Борис Зыков Виталий
Зыков Виталий