потом, вынимая заколку из галстука, запонки с топазами из
манжет, золотую пуговицу из накладного воротника, она понюхала
рубашку, а за ней - брюки, когда вынимала кольцо с одиннадцатью
ключами, перочинный ножичек с перламутровой рукояткой, а под
конец - трусы, носки и носовой платок с монограммой. Не
оставалось и тени сомнения: на каждой вещи был запах, которого
на них никогда за столько лет совместной жизни не было, запах,
который невозможно определить: пахло не естественным цветочным
или искусственным ароматом, пахло так, как пахнет только
человеческое существо. Она не сказала ничего и в последующие
дни не учуяла этого запаха, но теперь обнюхивала одежду мужа не
затем, чтобы решить, следует ли ее стирать, а с неодолимым и
мучительным беспокойством, разъедавшим ее нутро.
поместить этот запах. Он не умещался в промежуток между
утренним преподаванием в училище и обедом, ибо она полагала: ни
одна женщина в здравом уме не станет заниматься любовью в
спешке и налетом, тем более - во время короткого визита, да еще
в такое время дня, когда нужно подметать пол, застилать
постели, делать покупки и готовить обед и при том беспокоиться,
как бы один из малолетних детей, поколоченный в ребячьей
потасовке, явившись раньше времени из школы, не застал бы ее в
одиннадцать утра посреди комнаты голой и к тому же - вместе с
доктором. Кроме того, она знала, что доктор Хувеналь Урбино
предается любви исключительно в ночное время, а еще лучше- в
полной темноте, и в крайнем случае - перед завтраком, под пение
ранних птиц. А в иное время, говорил он сам, раздеваться и
одеваться - дольше, чем само удовольствие от этой петушиной
любви.
докторского визита или же вследствие обмана - замены шахмат или
киносеансов на сеансы любви. Это последнее трудно было
проверить, потому что, в отличие от своих многочисленных
подруг, Фермина Даса была слишком гордой, чтобы шпионить за
мужем или попросить кого-нибудь сделать это за нее. Время
визитов, казавшееся наиболее подходящим для супружеской
неверности, проследить было легче - доктор Хувеналь Урбино
тщательным образом вел записи относительно пациентов, учитывая
даже все гонорары, полученные от каждого с самого первого
визита до последнего, когда перекрестив, желал вечного
блаженства его душе.
слышала этого запаха на одежде мужа, и потом вдруг почуяла,
когда меньше всего ожидала, и несколько дней подряд ощущала
его, как никогда беззастенчивый, хотя один из этих дней был
воскресным и к тому же семейным праздником, так что весь день
они ни на миг не разлучались. Как-то под вечер она вошла в
кабинет мужа, вопреки обычаю и даже вопреки своему желанию,
словно это была не она, а другая, поступавшая так, как сама она
не поступила бы никогда на свете, и стала с помощью сильной
бенгальской лупы разбирать каракули - записи его врачебных
визитов к пациентам за последние месяцы. Впервые входила она
одна в этот кабинет, пропитанный испарениями креозота, набитый
книгами в переплетах из кожи неведомых животных, фотографиями,
запечатлевшими группки учеников, почетными грамотами,
астролябиями и всевозможными кинжалами, которые он
коллекционировал многие годы. Это тайное святилище было
единственным уголком частной жизни ее супруга, куда ей не было
входа, потому что он не имел никакого отношения к любви: те
редкие разы, когда она туда входила, она всегда входила вместе
с ним и всегда - по каким-то пустячным делам. Она не
чувствовала себя вправе входить сюда одна, и еще меньше -
пускаться в розыски, которые не считала приличными. Но она
вошла. Вошла потому, что очень хотела найти правду и безумно
боялась найти ее; неподвластный ей порыв был сильнее природной
гордости, сильнее собственного достоинства: этакая
захватывающая мука. Она так ничего толком и не узнала, потому
что пациенты мужа, за исключением общих друзей, тоже были
частью его монопольного владычества, люди безликие, которых
знали не в лицо, а по болезням, не по цвету глаз или сердечным
порывам, а по размеру печени, налету на языке, мутной моче и
ночному бреду в лихорадке. Люди, которые верили в ее мужа,
которые верили, что живут благодаря ему, в то время как жили
для него, и жизнь их в конечном счете сводилась к фразе,
написанной им собственноручно в самом низу рецептурного бланка:
"Упокойся духом, Господь ожидает тебя у врат своих". После двух
часов бесплодных поисков Фермина Даса вышла из кабинета с
ощущением, что поддалась непристойному искушению.
перемены в муже. Ей стало казаться, что он избегает ее, что
стал безразличен за столом и в постели, раздражителен и
язвительно колок, и дома он уже не прежний, спокойный, а
походит на запертого в клетку льва. Впервые после того, как они
поженились, она мысленно стала отмечать все его опоздания, по
минутам, и сама начала лгать, чтобы выудить из него правду,
чувствуя себя смертельно уязвленной этим противным ее естеству
поведением. Однажды она проснулась среди ночи от страшного
ощущения: муж в темноте смотрел на нее, как ей показалось,
полными ненависти глазами. Потрясение было подобно тому, какое
она пережила в ранней юности, когда в изножье постели ей
привиделся Флорентино Ариса, только то было видение любви, а
это - ненависти. К тому же это видение не было плодом фантазии:
в два часа ночи муж не спал, а приподнялся в постели и смотрел
на нее, спящую, но когда она спросила, почему он на нее
смотрит, он стал отрицать. Снова лег на подушку и сказал: -
Наверное, тебе приснилось. После той ночи и некоторых других
подобных случаев, произошедших в ту же пору, Фермина Даса уже
не могла с уверенностью сказать, где кончалась реальность и
начинался вымысел, и решила, что сходит с ума. Потом она
увидела, что муж не пошел причащаться в четверг на праздник
Тела Христова и в следующие за тем недели, по воскресеньям, не
нашел времени для духовного очищения за год. На вопрос, чему
обязаны эти небывалые перемены в его духовном здоровье, она
получила путаный ответ. Это был ключ ко всему: ни разу со дня
первого причастия, которое он принял в восемь лет, он не
уклонялся от причастия в большой праздник. Она поняла: муж не
только совершил смертный грех, но и решил жить в грехе, коль
скоро не прибегает к помощи своего духовника. Она даже не
представляла, что может так страдать из-за того, что, на ее
взгляд, было полной противоположностью любви, но, оказывается,
страдала, и решила - чтобы не умереть - прибегнуть к крайнему
средству: сунуть горящий факел в этот змеиный клубок, что
раздирал ее внутренности. Такая она была. Однажды после обеда
она сидела на террасе, штопала пятки на чулках, а муж, как
всегда в сиесту, читал книгу. Неожиданно она отложила штопку,
подняла очки на лоб и прервала его занятие, но в тоне не было и
тени жесткости:
читали этот роман, и ответил ей, не выходя из атмосферы книги:
однако их можно было и не снимать: ее взгляд опалил его.
снова принялась за штопку. И доктор Хувеналь Урбино понял, что
долгие часы тоскливой тревоги кончились. В отличие от того, как
он представлял себе этот момент, сердце его не сотрясло
волнение - в сердце хлынул покой. Великое облегчение от того,
что наконец-то случилось то, что рано или поздно должно было
случиться: призрак сеньориты Барбары Линч вошел в дом.
очереди, в поликлинике больницы Милосердия, и сразу же понял: в
его судьбе произошло непоправимое. Это была высокая мулатка,
элегантная, ширококостная, с кожей, цветом и нежностью
походившей на патоку; в тот день на ней было красное платье с
белыми разводами и в тон ему - шляпа с широкими полями,
отбрасывавшими тень до самых ресниц. Более выраженное женское
естество немыслимо было вообразить. Доктор Хувеналь Урбино не
принимал в поликлинике, но если он попадал сюда, имея в запасе
время, он всегда заходил к своим бывшим ученикам, чтобы лишний
раз напомнить им: лучшее врачевание - хороший диагноз. На этот






 Лукин Евгений
Лукин Евгений Конан-Дойль Артур
Конан-Дойль Артур Самойлова Елена
Самойлова Елена Свержин Владимир
Свержин Владимир Круз Андрей
Круз Андрей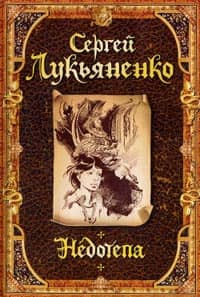 Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей