зажег свет. Хосе Аркадио Второй, более чем когда-либо
торжественный и задумчивый, сидел на краю койки, готовый встать
и пойти. За ним виднелись полки с растрепанными книгами и
свитками пергаментов, все еще чистый и прибранный рабочий стол
с чернильницами, все еще полными чернил. В комнате был тот же
свежий и прозрачный воздух, та же неподвластность пыли и
разрушению, которые помнил с детства Аурелиано Второй и которые
не умел замечать один лишь полковник Аурелиано Буэндиа. Но
внимание офицера было приковано только к горшкам.
на том пространстве, где Аурелиано Второй и Санта София де ла
Пьедад продолжали видеть Хосе Аркадио Второго; теперь и сам
Хосе Аркадио Второй заметил, что военный смотрит на него, не
видя его. Потом офицер выключил свет и прикрыл дверь. Когда он
заговорил с солдатами, Аурелиано Второй понял, что молодой
военный видел комнату Мелькиадеса теми же глазами, какими видел
ее полковник Аурелиано Буэндиа.
не заглядывал, -- сказал офицер своим солдатам. -- Тут,
наверное, даже змеи водятся.
уверенность, что его война пришла к концу. За много лет до
этого полковник Аурелиано Буэндиа рассказывал ему о
притягательной силе войны и пытался доказать свое утверждение
бесчисленными примерами из собственной жизни. Хосе Аркадио
Второй поверил ему. Но в ту ночь, пока офицер глядел на него,
не видя его, он вспомнил о напряжении последних месяцев, о
мерзостях тюрьмы, о панике на станции, о поезде, груженном
трупами, и пришел к заключению, что полковник Аурелиано Буэндиа
просто шарлатан или дурак. Он не понимал, зачем нужно было
тратить столько слов, чтоб объяснить, что ты испытываешь на
войне, когда достаточно всего лишь одного слова: страх. В
комнате Мелькиадеса он, защищенный разлитым в ней колдовским
светом, шумом дождя, чувством своей невидимости, обрел тот
покой, которого не имел ни одной минуты за всю свою прошлую
жизнь; единственное, что еще вызывало в нем страх, была мысль,
как бы его не похоронили заживо. Он рассказал об этом Санта
Софии де ла Пьедад, носившей ему пищу, и та обещала сделать все
возможное, прожить как можно дольше и удостовериться
собственными глазами, что его хоронят мертвым. Тогда,
освободившись наконец от всяких страхов, Хосе Аркадио Второй
занялся изучением пергаментов Мелькиадеса, и чем меньше он
понимал их, тем с большим удовольствием продолжал изучать. Он
привык к шуму дождя, который через два месяца уже превратился в
новую форму тишины, и его одиночество нарушалось лишь
появлением Санта Софии де ла Пьедад. Он упросил ее оставлять
еду на подоконнике, а на дверь повесить замок. Другие члены
семьи забыли о Хосе Аркадио Втором, даже Фернанда, не
возражавшая против пребывания деверя в доме с тех пор, как ей
стало известно, что офицер застал его в комнате, но не увидел.
Через полгода заточения Хосе Аркадио Второго, когда войска
покинули Макондо, Аурелиано Второй, жаждавший поболтать с
кем-нибудь, пока перестанет дождь, снял замок с дверей комнаты.
Как только он вошел, в нос ему сразу ударило зловоние от
горшков -- они стояли на полу и были неоднократно использованы
по назначению. Хосе Аркадио Второй, облысевший, безразличный к
тошнотворным, отравляющим воздух испарениям, продолжал читать и
перечитывать непонятные пергаменты. Он весь светился каким-то
ангельским сиянием. При звуке открывшейся двери он лишь поднял
глаза от стола и снова опустил их, но брату было достаточно и
этого короткого мгновения, чтобы увидеть в его взгляде
повторение непоправимой судьбы прадеда.
Аркадио Второй. -- Я уверен, что там были все, кто собрался на
станции.
он словно бы затихал, и тогда все жители Макондо в ожидании
скорого конца ненастья надевали праздничные одежды, и на лицах
у них теплились робкие улыбки выздоравливающих; однако вскоре
население города привыкло к тому, что после каждого такого
просвета дождь возобновляется с новой силой. Гулкие раскаты
грома раскалывали небо, с севера на Макондо налетали ураганные
ветры, они сносили крыши, валили стены, с корнем вырывали
последние банановые деревья, оставшиеся на плантациях. Но, как
и во времена бессонницы, которую Урсула часто вспоминала в те
дни, само бедствие подсказывало лекарства против порожденной им
скуки. Аурелиано Второй был одним из самых упорных борцов с
бездельем. Накликанная сеньором Брауном буря захватила его в
доме у Фернанды, куда он заглянул в тот вечер по какому-то
пустячному поводу. Фернанда предложила своему супругу
поломанный зонтик, отыскавшийся в стенном шкафу. "Не нужно, --
сказал Аурелиано Второй. -- Я побуду здесь, пока не пройдет
дождь". Конечно, эта фраза не могла считаться нерушимой
клятвой, но Аурелиано Второй твердо намеревался сдержать свое
слово. Его одежда осталась в доме Петры Котес, и каждые три дня
он стаскивал с себя все, что на нем было, и в одних кальсонах
ждал, пока ему постирают. Чтобы не скучать, он взялся устранить
все изъяны, накопившиеся в доме. Он прилаживал дверные петли,
смазывал замки, привинчивал засовы и выпрямлял шпингалеты. В
течение нескольких месяцев можно было видеть, как он бродит по
дому, таская под мышкой ящик с инструментами, который, должно
быть, забыли цыгане еще при Хосе Аркадио Буэндиа, и никто не
знал почему -- то ли от физической работы, то ли от дьявольской
скуки, то ли от вынужденного воздержания, -- но его брюхо
постепенно опадало, как пустеющий бурдюк с вином, его лицо,
напоминающее блаженную морду гигантской черепахи, теряло свой
багрово-красный оттенок, двойной подбородок сглаживался, и
наконец Аурелиано Второй похудел настолько, что начал сам
завязывать шнурки своих ботинок. Глядя, как он старательно
прилаживает дверные щеколды и разбирает на части стенные часы,
Фернанда подумала, не впал ли ее супруг в грех переливания из
пустого в порожнее, подобно полковнику Аурелиано Буэндиа с его
золотыми рыбками, Амаранте с ее пуговицами и саваном, Хосе
Аркадио Второму с пергаментами и Урсуле, вечно пережевывающей
свои воспоминания. Но это было не так. Просто дождь все
перевернул вверх ногами, и даже у бесплодных механизмов, если
их не смазывали каждые три дня, между шестеренками прорастали
цветы, нити парчовых вышивок покрывались ржавчиной, а в
отсыревшем белье заводились водоросли шафранного цвета. Воздух
был настолько пропитан влагой, что рыбы могли бы проникнуть в
дом через открытую дверь, проплыть по комнатам и выплыть из
окон. Однажды утром Урсула проснулась, чувствуя страшную
слабость -- предвестие близкого конца, -- и уже попросила было
положить ее на носилки и отнести к падре Антонио Исабелю, но
тут Санта София де ла Пьедад обнаружила, что вся спина старухи
усеяна пиявками. Раздувшихся тварей прижигали головешками и
отрывали одну за другой, чтобы они не высосали из Урсулы
последние остатки ее крови. Пришлось вырыть сточные канавы,
отвести воду из дома, очистить его от жаб и улиток -- только
после этого можно было вытереть полы, убрать кирпичи из-под
ножек кроватей и ходить в ботинках. Занятый сотнями мелочей,
которые требовали его внимания, Аурелиано Второй не замечал
приближения старости, но однажды вечером, когда он неподвижно
сидел в качалке, созерцая ранние сумерки, и думал о Петре
Котес, не испытывая при этом никакого волнения, он вдруг
почувствовал, что стареет. Казалось, ничто не мешало ему
вернуться в пресные объятия Фернанды, чья красота с приходом
зрелости расцвела его больше, но дождь смыл все желания и
наполнил его безразличным спокойствием пресытившегося человека.
Аурелиано Второй улыбнулся при мысли, чего бы он только не
вытворял раньше в такой дождь, затянувшийся на целый год. Одним
из самых первых он привез в Макондо цинковые листы, и это было
задолго до того, как банановая компания ввела в моду цинковые
крыши. Он раздобыл их, чтобы покрыть крышу над спальней Петры
Котес и наслаждаться ощущением глубокой близости, которое в те
времена вызывал у него шум дождя. Но даже эти воспоминания о
былых безумствах и причудах молодости не взволновали Аурелиано
Второго, как будто в последней гулянке он истощил все запасы
своей чувственности и в награду получил дивное свойство --
способность думать о прошлых радостях без горечи и раскаяния.
На первый взгляд казалось, что дождь наконец дал ему
возможность спокойно сесть и поразмышлять на досуге, а ящик с
масленками и плоскогубцами разбудил в его душе запоздалую тоску
по тем полезным делам, которыми он мог бы заняться и не
занялся, но это было не так: любовь к оседлости и домашнему


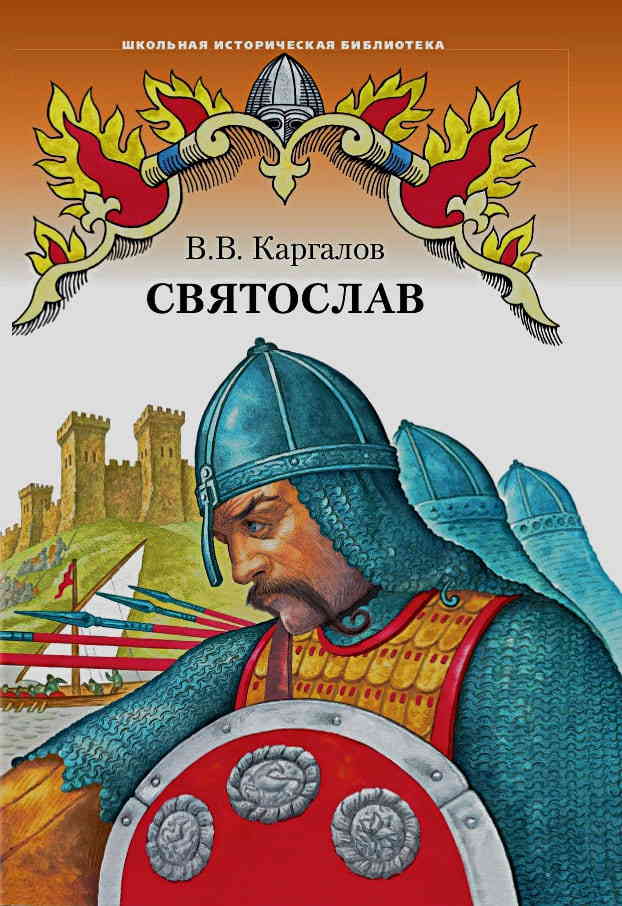


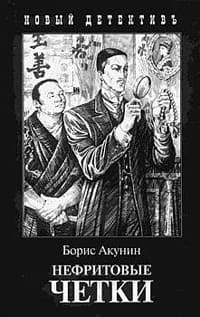
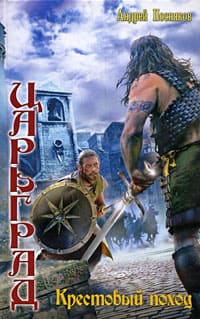 Посняков Андрей
Посняков Андрей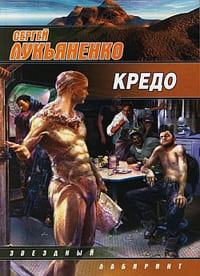 Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей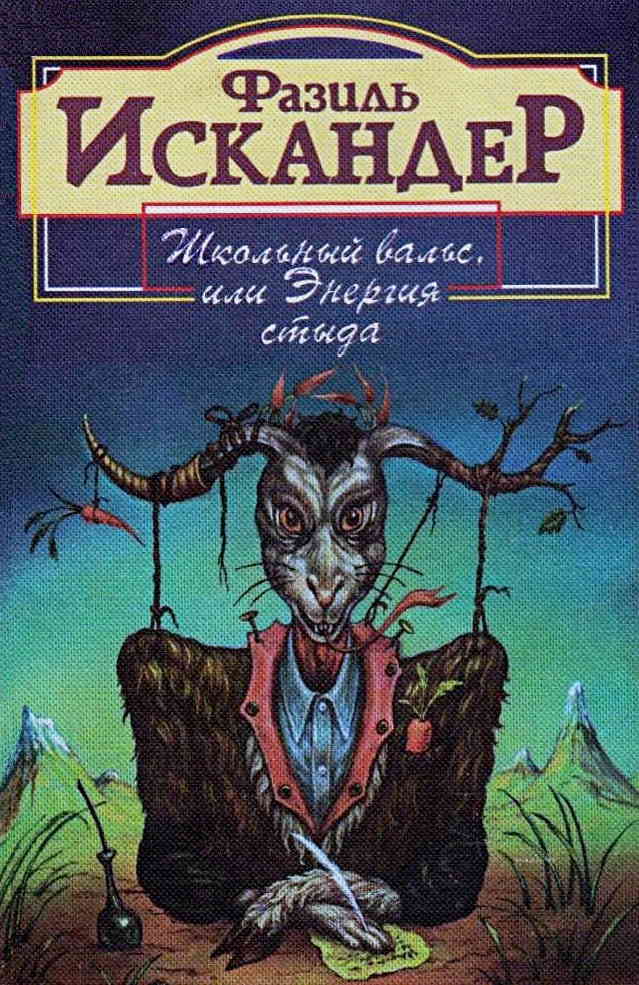 Фазиль Искандер
Фазиль Искандер Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий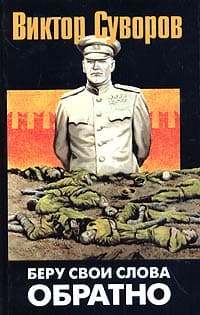 Суворов Виктор
Суворов Виктор Лондон Джек
Лондон Джек