Генри Миллер
Тропик Козерога
Тропик Козерога
Tropic of Capricorn
ЕЙ
Человеческие чувства часто сильнее возбуждаются или смягчаются примерами, чем
словами. Поэтому, после утешения в личной беседе, я решил написать тебе,
отсутствующему, утешительное послание с изложением пережитых мною бедствий,
чтобы, сравнивая с моими, ты признал свои собственные невзгоды или ничтожными,
или незначительными и легче переносил их.
Пьер Абеляр*, "История моих бедствий"**
НА ОВАРИАЛЬНОМ ТРАМВАЕ
Однажды вы опускаете руки, смиряетесь, и все даже посреди хаоса сменяет одно
другое с неумолимой определенностью. С самого начала не было ничего, кроме
хаоса, а хаос был жидкостью, обволакивавшей меня, в которой я дышал жабрами. В
непрозрачных нижних слоях, там, где лился ровный лунный свет, все было гладким и
плодородным; выше начинались дрязги и шум. Во всем я быстро находил
противоречие, противоположность, а между настоящим и вымышленным -- скрытую
насмешку, парадокс. Я сам себе был худший враг. Чего бы я ни пожелал -- мне все
давалось. И даже ребенком, когда я ни в чем не знал нужды, я хотел умереть:
хотел капитулировать, поскольку не видел смысла в борьбе. Я понимал, что,
продолжая то существование, о котором я не просил, ничего не докажешь, не
подтвердишь, не прибавишь и не убавишь. Все вокруг меня были или неудачниками
или, в лучшем случае, посмешищами. В особенности те, преуспевающие.
Преуспевающие нагоняли на меня смертельную скуку. Я сочувствовал промахам, но не
сочувствие сделало меня таким. Это было чисто отрицательное качество, слабость,
расцветавшая при виде человеческого несчастья. Я никогда никому не помогал в
расчете совершить доброе дело -- я помогал, потому что просто не умел поступать
иначе. Желание изменить порядок вещей казалось мне тщетным: я убедился, что
ничего не переделаешь, не изменив душу, а кто способен изменить души людские? От
случая к случаю изменяли друзья, от чего хотелось блевать. В Боге я нуждался не
больше, чем Он во мне, и, попадись Он мне, часто говаривал я, я встретил бы Его
очень хладнокровно и плюнул бы Ему в морду.
Самое досадное то, что люди принимали меня, как правило, за хорошего, честного,
доброго, образцового и даже
__________
* Здесь и далее см. примечания.
** Перевод В. Соколова.
27
надежного человека. Может быть, я и обладал этими качествами, но, если так, то
лишь потому, что был ко всему безразличен: я мог позволить себе быть хорошим,
честным, добрым, надежным и так далее, поскольку не знал зависти. Я никогда не
становился жертвой зависти. Никогда не завидовал никому и ничему. Напротив, я
всегда жалел всех и вся.
С самого начала я, должно быть, приучил себя не слишком поддаваться желаниям. С
самого начала я ни от кого не зависел, но это был обман. Я ни в ком не нуждался,
ибо хотел быть свободным, свободным поступать так, как заблагорассудится моим
прихотям. Когда от меня чего-нибудь требовали или ждали -- я упирался. Так
проявлялась моя независимость. Иными словами, я был испорчен изначально. Как
будто мать вскормила меня ядом, и то, что она рано отняла меня от груди, меня не
спасло -- от яда я не очистился. Даже когда она отняла меня от груди, я проявил
полное безразличие. Многие дети выражают или по крайней мере изображают протест,
а мне было хоть бы что. Я философствовал с ползунков. Из принципа настраивал
себя против жизни. Из какого же принципа? Из принципа тщетности. Все вокруг
боролись. Я же никогда и не пытался. А если создавал такую видимость, то лишь
для того, чтобы кому-нибудь угодить, но в глубине души и не думал рыпаться. Если
вы мне растолкуете почему -- я отвергну ваши объяснения, поскольку рожден
упрямцем, и это неизбывно. Позже, повзрослев, я узнал, что меня чертовски долго
вытягивали из утробы. Прекрасно понимаю. Зачем шевелиться? Зачем покидать
замечательное теплое место, уютное гнездышко, где все дается даром? Самое раннее
воспоминание -- это стужа, снег, наледи на водосточных трубах, морозные узоры на
стекле, холод влажных зеленоватых стен кухни. Почему люди селятся в непотребных
климатических зонах, которые ошибочно именуют умеренными? Потому что они --
прирожденные идиоты, бездельники и трусы. До десяти лет я не представлял себе,
что где-то есть "теплые" страны, в которых не надо ни трудиться в поте лица, ни
дрожать и делать вид, что это бодрит. Всюду, где холодно, люди трудятся до
изнеможения, а, произведя на свет потомство, проповедуют подрастающему поколению
евангелие труда, которое, по сути, не что иное, как доктрина инерции. Мои
домашние -- народец совершенно нордического толка, то есть -- народ идиотов. Они
с радостью хватались за любую когда-либо высказанную ошибочную идею. В том числе
-- идею чистоплотности, не говоря уж о доктрине добродетели. Они болезненно
чистоплотны. Но изнутри -- воняют. Они ни разу не открыли дверь, ведущую к душе,
и никогда не мечтали о
28
безрассудном прыжке в потаенное. После обеда -- проворно мыли посуду и убирали в
буфет; прочитанную газету аккуратно складывали и клали на полку; постиранную
одежду тут же отглаживали и прятали в шкаф. Все -- ради завтрашнего дня, но
завтра так и не наступало. Настоящее -- это только мост к будущему, и на этом
мосту -- стоны; стонет весь мир, но ни один идиот не задумается, а не взорвать
ли этот мост?
Я часто с горечью выискивал поводы, чтобы осудить их, а не себя. Ведь я тоже во
многом похож на них. Долго я ставил себя особняком, но со временем понял, что я
не лучше их, даже чуть хуже, поскольку понимал все гораздо ясней и тем не менее
ничего не сделал, чтобы изменить свою жизнь. Оглядываясь назад, теперь я вижу,
что ни разу не поступил сообразно со своей волей, -- всегда под давлением
других. Меня часто принимали за авантюриста -- нет ничего более далекого от
истины. Мои приключения всегда были случайными, навязанными, проистекали, а не
воплощались. Я -- плоть от плоти этого самодовольного, хвастливого нордического
народа, не имеющего ни малейшего вкуса к приключениям, тем не менее прочесавшего
всю землю, перевернувшего ее вверх дном, усеявшего ее реликвиями и руинами.
Неугомонные создания, но не авантюрные. Агонизирующие души, неспособные жить
настоящим. Позорные трусы -- все они, и я в том числе. Ибо существует лишь одно
великое приключение -- и это путешествие внутрь себя, и тут не имеют значения ни
время, ни пространство, ни даже поступки.
Раз в несколько лет я оказывался на грани такого открытия, но всякий раз оно
каким-то образом ускользало от меня. И единственное объяснение, которое приходит
мне в голову -- виновато само окружение: улицы и люди, обитающие на них. Я не
могу назвать ни одной американской улицы -- вкупе с населяющим ее народом --
которая могла бы привести к познанию самого себя. Я исходил улицы многих стран,
но нигде не чувствовал себя таким униженным и оплеванным, как в Америке. Обо
всех улицах Америки вместе взятых я думаю как об огромной выгребной яме,
выгребной яме духа, в которую все засасывается и тонет в непреходящем говне. А
над этой выгребной ямой волшебная сила труда возводит дворцы и фабрики, военные
заводы и прокатные станы, санатории, тюрьмы и сумасшедшие дома. Весь континент
-- словно ночной кошмар, порождающий небывалые несчастья в небывалых
количествах. И я -- одинокое существо на величайшей пирушке здоровья и счастья
(среднестатистического здоровья, среднестатистического счастья), где не
встретишь ни одного
29
по-настоящему здорового и счастливого человека. Во всяком случае, про себя я
всегда знал, что я несчастлив и нездоров, что со мной не все в порядке, что я
иду не в ногу. И в том состояло мое единственное утешение, моя единственная
радость. Но вряд ли этого было достаточно. Было бы много лучше для моей души,
если бы я выразил свой протест открыто, если бы я за свой протест отправился на
каторгу и сгнил бы там, и сдох. Было бы много лучше, если бы я, подобно
безумному Чолжошу, застрелил некоего славного президента Маккинли, некую
незлобивую душу, никому не принесшую даже малой толики зла. Ибо на дне моей души
таилась мысль об убийстве: я хотел видеть Америку разрушенной, изуродованной,
сравненной с землей. Я хотел этого исключительно из мстительного чувства, в
качестве возмездия за преступления, творимые по отношению ко мне и мне подобным,
кто так и не поднял свой голос, так и не выразил свою ненависть, свой протест,
свою справедливую жажду крови.
Я -- дьявольское порождение дьявольской земли. И "Я", о котором пишу, давно бы
сгинуло, когда бы не было вечным. Кому-то все это покажется выдумкой, но даже
то, что я измыслил, действительно имело место, по крайней мере, со мной. История
может это отрицать, ведь я не сыграл ни малейшей роли в истории моего народа, но
даже если все то, о чем я говорю, вымышленно, тенденциозно, злобно,
несправедливо, даже если я лжец и злопыхатель -- тем не менее это правда, и это
надо принять.
А вот что было...
Все, что происходит значительного, по природе своей противоречиво. Когда
появилась та, для кого я пишу эти строки, я вообразил, что где-то вне, как
говорится, в жизни, лежит решение всех проблем. Познакомившись с ней, я подумал,
что ухватил жизнь за хвост, что получил нечто, за что можно уцепиться. Отнюдь --
у меня совсем не стало жизни. Я искал, к чему бы прибиться, и не находил ничего.
Но в самом поиске, в попытках охватить, прилепиться, покончить с
неустроенностью, я нашел то, чего не искал -- самого себя. Я понял, что никогда
не испытывал ни малейшего интереса к жизни, а только к тому, чем я занимаюсь
сейчас, к чему-то, параллельному жизни, одновременно и принадлежащему ей, и
находящемуся вне ее. Что есть истина -- мало интересовало меня, да и реальное
меня не заботило, меня занимало только воображаемое, то, что я ежедневно душил в
себе для того, чтобы жить. Умереть сегодня или завтра -- не имеет никакого
значения для
30
меня и никогда не имело, но то, что даже сегодня, после многолетних попыток, я
не могу высказать то, что думаю и чувствую -- мучит и терзает меня. Теперь мне
понятно, что с самого детства я, ничему не радуясь, гнался по пятам
самовыражения, и ничего, кроме этой способности, этой силы, не желал. Все
остальное -- ложь, все, что я когда-либо совершил или сказал не согласуясь с






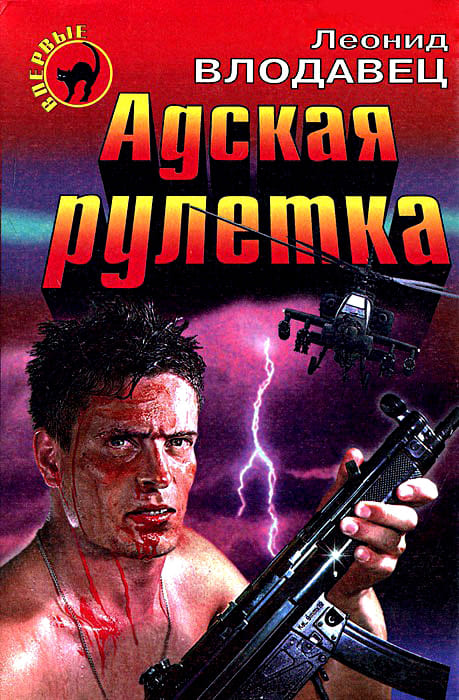 Влодавец Леонид
Влодавец Леонид Флинт Эрик
Флинт Эрик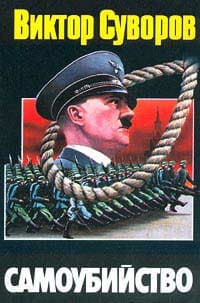 Суворов Виктор
Суворов Виктор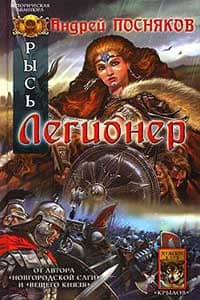 Посняков Андрей
Посняков Андрей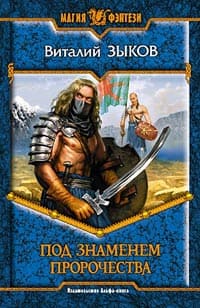 Зыков Виталий
Зыков Виталий Круз Андрей
Круз Андрей