ласку темной ночью, поставив капкан. Мне оставалось только лечь в темноте,
расстегнуть брюки и ждать. Она была подобна Офелии, как если бы та случайно
воскресла и во второй жизни очутилась среди кафров. Она не помнила ни одного
слова ни одного языка, особенно английского. Она была глухонемой, потерявшей
память, причем с остатками памяти она утратила также щипцы для завивки, щипчики
для ногтей и дамскую сумочку. Она была голая как рыба, только между ног торчал
пук волос. И она была более скользкая, чем рыба, поскольку у рыб хоть чешуя
есть, а у нее не было. Иногда я терялся в догадках: я в ней, или она во мне? То
была открытая война, новомодный Панкратион*, когда всяк пытается укусить себя в
задницу. Любовь в среде червей, с бесстыдно поднятой крайней плотью, любовь без
пола и без лизола. Инкубационная любовь, которую практикуют росомахи на
верхушках деревьев. С одной стороны -- Северный Ледовитый океан, с другой --
Мексиканский залив. И хотя мы не обращались к нему открыто, с нами всегда был
Кинг-Конг, Кинг-Конг, спящий в затонувшем остове "Титаника" среди
фосфоресцирующих костей миллионеров и миног. Никакая логика не помогала
избавиться от Кинг-Конга. Он был гигантским бандажом, умерявшим мимолетную боль
души. Он был свадебным пирогом с волосатыми ногами и руками длиной в милю. Он
был вертящимся экраном, на котором мелькали новости. Он был дулом револьвера,
который никогда не палит, прокаженным, вооружившимся отпиленным гонококком.
Именно тут, в пустоте грыжи, я спокойно размышлял посредством пениса. Прежде
всего -- о биномиальной тео-
164
реме, фразе, всегда озадачивавшей меня: я положил ее под увеличительное стекло и
изучил от икс до зет. Потом -- о Логосе, который я каким-то образом всегда
идентифицировал с дыханием: напротив, я обнаружил, что это разновидность
навязчивой идеи, машина, которая продолжала размалывать зерно, тогда как житницы
уж давно были полны и евреи ушли из Египта. Еще был Буцефаллус*, слово, любезное
мне более остальных слов моего словаря, буду щеголять им во всяком
затруднительном положении, а с ним вместе не забуду Александра и его царскую
свиту. Что за конь! Произведенный на свет в Индийском океане, последний в роду,
сам не вступивший в брак, разве что с царицей амазонок во время месопотамских
событий. Еще был шотландский гамбит! Удивительное выражение, никакого отношения
к шахматам не имеющее. Оно являлось мне в виде человека на ходулях со страницы
2498 "Полного Словаря" Функа и Вагналла*. Гамбит был разновидностью прыжка в
незнаемое на механических ногах. Прыжок неизвестно зачем -- значит, гамбит!
Чистый как колокол и удивительно простой, если вы сподобились его понять. Еще
была Андромеда, и Медуза Горгона, и Кастор и Поллукс небесного происхождения,
мифологические близнецы, навечно закрепленные в эфемерной звездной пыли. Еще
были бдения, слово определенно сексуальное, и все же предполагающее такие
церебральные коннотации, что мне становилось не по себе. Всегда "полуночные
бдения", причем слово "полуночные" таило зловещий смысл. И еще шпалеры. Когда-то
кого-то проткнули шпагой, когда он стоял за шпалерой. Я видел напрестольную
пелену, выполненную из асбеста, а в ней ужасная дыра, какую мог проделать сам
Цезарь.
Я размышлял очень спокойно, как уже отметил. В таком духе не отказывали себе в
удовольствии поразмышлять и люди каменного века. Все было и не абсурдным, и не
допускающим объяснения. Словно разрезанная на кусочки картинка-загадка, которую,
наскучив составлять, отбрасываешь в сторону. Все можно с легкостью отложить,
даже Гималаи. Как раз вопреки мысли Магомета. Это ни к чему не приводит и потому
приятно. Огромное сооружение, которое мы воздвигнули за время затянувшегося
полового акта, может быть опрокинуто в мгновение ока. В счет пойдет лишь то, что
мы трахались, а никак не строительные работы. Это -- как жизнь в Ковчеге во
время Потопа, ты обеспечен всем вплоть до апельсинного ликера. К чему совершать
убийства, насиловать, кровосмесительствовать, когда от тебя требуется лишь
убивать время? Дождь, дождь, дождь, а внутри Ковчега сухо и тепло, каждой твари
165
по паре, а в кладовке превосходная вестфальская ветчина, свежие яйца, маслины,
маринады, вустерский соус и прочие деликатесы. Господь призвал меня, Ноя,
основать новое небо и новую землю. Он дал мне крепкую лодку с хорошо
просмоленными и как следует высушенными швами. И еще Он дал мне умение бороздить
штормливое море. Может быть, когда кончится дождь, понадобится другое умение, но
в настоящий момент мореходного знания достаточно. Остальное -- это шахматы в
"Кафе Рояль" на Второй авеню, да еще партнера надо подыскать, какого-нибудь
умного еврея, чтобы партия продолжалась, пока дождь не перестанет. Но, как я уже
говорил, у меня не будет времени скучать: со мной мои старые друзья -- Логос,
Буцефаллус, шпалеры, бдения и так далее. Так зачем шахматы?
Запертый в тюрьме в течение нескольких дней и ночей, я начал понимать, что
размышление, если только это не мастурбация, служит мягчительным, заживляющим,
приятным средством. Размышление, не приводящее никуда, ведет вас повсюду; прочие
размышления ведут по колее, и неважно, какова дистанция -- все завершается
складом или депо. В конце всегда красный сигнал, приказывающий: СТОП! А когда
размышлять принимается пенис -- тут ни помех, ни стопа, это -- вечный праздник,
свежая приманка и рыба, дергающая леску. А это напоминает мне о Веронике, так
ее, кажется звали. Вот еще. одна пизда, наводившая на нехорошие мысли. С
Вероникой вечно была возня в вестибюле. На танцплощадке про нее можно было
подумать, будто она собирается преподнести вам в постоянный дар свои яичники, а
потом, ближе к делу, она принималась вдруг размышлять, размышлять о шляпке,
кошельке, о тетке, которая ее ждет, о письме, которое она забыла отправить, о
работе, которую может потерять, -- то есть о всяческих глупостях, совершенно
неуместных и никак не относящихся к делу. Словно подключала к пизде,
настороженной и бдительной, мозги. То была почти, так сказать, метафизическая
пизда. То была пизда, обдумывающая каждый шаг, более того: это был особый способ
размышлять, с размеренностью метронома. Для такого рода перемещенных ритмических
бдений требовался специальный тусклый свет: достаточно приглушенный, чтобы можно
было расстегнуться, и все же довольно заметный, если ненароком отскочит пуговица
и покатится по полу вестибюля. Вы понимаете, что я имею в виду. Непроизвольная,
но щепетильная точность, стальная уверенность, позволяющая отключиться. И в то
же время трепетность и непредсказуемость, так что не определишь, синица или
журавль.
166
Что это у меня в руке? Хорошее или превосходное? Ответ всегда один: суп из утки.
Когда берешь ее за сиськи, она кричит, будто попутай; когда лезешь к ней под
юбку, она вьется, словно уж; когда прижмешь ее покрепче, она кусается, как
хорек. Она все тянет, тянет, тянет. Зачем? Что потом? Даст через часок-другой?
Один шанс из миллиона. Она похожа на голубку, попавшуюся в силок, но пытающуюся
взлететь. Она своим видом старалась показать, будто у нее нет ног. А если
надумаешь ее освободить, она угрожает тебя обгадить.
Из-за ее удивительного зада и по причине ее неприступности я мысленно сравнивал
ее с Pons Asinorum*. Каждый школьник знает, что мост ослов не может перейти
никто, только два белых ослика, ведомых слепцом. Я не помню, почему это так, но
это правило, установленное стариком Евклидом. Он был преисполнен знания, старый
пердун, и в один прекрасный день -- думаю, чтобы потешить себя -- построил мост,
который не было дано перейти никому из смертных. Он назвал его мостом ослов,
поскольку был владельцем пары замечательных белых осликов, и так привязался к
ним, что никому не хотел уступить право обладания. Поэтому он тешил себя мечтой,
в которой он, слепец, в один прекрасный день переводил осликов по мосту на
счастливые привольные пастбища. Вот и Вероника так. Она столь кичилась своим
великолепным белым задом, что ни с кем не хотела этим задом поделиться. Она
решила взять его с собой в рай, когда придет время. Что до ее пизды -- о
которой, кстати, она и не поминала -- что до ее пизды, .скажу я вам, так она
была только аксессуаром, приложенным к заду. В тусклом свете вестибюля, даже не
упоминая о двух своих незадачах явно, она каким-то образом создавала дискомфорт,
заставляя вас думать о них. То бишь, заставляла думать, действуя как
престидижитатор. Ты смотрел и ощущал только для того, чтобы в конце концов быть
обманутым, чтобы убедиться, что ты ничего не увидел и не почувствовал. То была
очень тонкая сексуальная алгебра, полуночные бдения, приносившие к утру "А" или
"В"*, но ничего более. Ты сдаешь экзамены, получаешь диплом -- и свободен. Тем
временем зад использовался исключительно для сидения, а пизда -- чтобы спускать
водичку. Между учебником и уборной пролегала промежуточная область, куда -- ни
ногой, ибо там -- заклейменная зона совокуплений. Можно мочиться и дрочить, но
совокупляться -- никогда. И свет не тушили, однако и солнце не светило. Всегда
полутьма, как раз, чтобы суметь расстегнуться. Но именно этот мрачноватый
проблеск света держал ум настороже вокруг всяких сумочек, губной
167
помады, пуговиц, ключей и тому подобного. По-настоящему думать не получалось,
поскольку ум уже занят. Ум зарезервирован, как пустое кресло в театре, на
котором владелец оставил свой шапокляк.
Я уже сказал, что Вероника обладала говорящей пиздой, и это было худо, ведь,
казалось, ее единственная функция заключалась в том, чтобы отговорить вас от
совокупления. У Эвелины, напротив, была смеющаяся пизда. Эвелина тоже жила
где-то на верхотуре, но в доме по соседству. Она забегала, как правило, в час
обеда, чтобы развлечь меня новой хохмой. Комедиантка чистой воды, единственная
по-настоящему смешливая женщина в моей жизни. Все обращала в шутку, и
совокупление тоже. Она могла одним своим смехом возбудить, а это, как вы знаете,
налегко. Полагают, будто у фаллоса нет сознания, но заставить член смеяться --
это ведь феноменально. В качестве примера могу привести одно: когда Эвелина
зажигалась, она принималась чревовещать пиздой. Вы были готовы войти в нее, как
вдруг куколка между ее ног разражалась хохотом. И это тут же передавалось вам:
вы чувствовали шаловливые подергивания и пожимания. Еще она умела петь, ее
куколка-пизда. Ни дать, ни взять -- дрессированный котик.
Нет ничего труднее, чем заниматься любовью в цирке. Все время действуя как
дрессированный котик, она становилась более недоступной, чем если бы была
опутана железными ремнями. Она могла испортить самую что ни на есть "личную"
эрекцию на свете. Испортить своим смехом. В то же время это не было так
унизительно, как можно себе представить. В вагинальном смехе было что-то
симпатичное. Казалось, весь мир раскручивается, словно порнографическое кино,
трагической темой которого является импотенция. Мысленно вы себе виделись то
собакой, то лаской, то белым кроликом. Любовь была чем-то сторонним вроде порции
черной икры или гелиотропа. Вы могли видеть в себе чревовещателя, говорящего об
икре и гелиотропах, но истинным лицом всегда была ласка или белый кролик. А




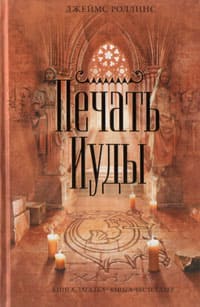

 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий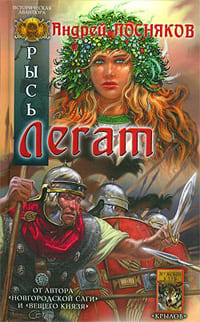 Посняков Андрей
Посняков Андрей Белов Вольф
Белов Вольф Шилова Юлия
Шилова Юлия Махров Алексей
Махров Алексей Круз Андрей
Круз Андрей