меня употребить, тебе надо стать изощреннее".
часто я, придя в половине второго к ван Нордену, заставал у него Бесси.
Обычно она сидела на кровати, одеяло было откинуто, и ван Норден уговаривал
ее погладить ему пенис: "Ну, пожалуйста, всего несколько легких
прикосновений... это придаст мне храбрости, чтоб вылезти из постели". В
другой раз он просил Бесси, подуть на свой пенис, но, получив отказ, быстрым
движением хватал его и тряс, как обеденный колокольчик; при этом оба умирали
со смеху. "Я никогда не справлюсь с этой стервой... -- говорил он. -- Она не
уважает меня. И все почему? Потому что я открыл ей свою душу". И тут же,
обращаясь к Бесси, спрашивал: "Как тебе понравилась вчерашняя блондинка?"
Бесси подтрунивала над ним, говоря, что у него нет вкуса. "Что ты несешь! --
отмахивался он и добавлял, вероятно, в тысячный раз. Потому что это стало
звучать как старая шутка:
наскоро, а? -- В ответ она смеялась, а он продолжал тем же тоном, указывая
на меня: -- А как насчет него? Почему ты не даешь ему?"
этому занятию холодно. Она говорила о "страсти", как будто это было новое
слово, которое она сама изобрела. При этом она действительно ко всему
относилась со страстью, даже к такому малозначащему для нее явлению, как
секс. Она должна была вложить в него душу.
знаешь, что такое страсть. Эрекцию ты принимаешь за страсть.
эрекции. Это-то ведь факт.
Норден каждый день таскает к себе. Я уже так привык к его монологам, что
научился не прерывать ход собственных мыслей, слушая его и только время от
времени, когда его голос затихает, подавая автоматически реплики.
Собственно, мы представляем собой хорошо слаженный дуэт, и, как во всех
дуэтах, один из музыкантов лишь внимательно ждет сигнала, чтобы вступить.
время, когда ночь почти на исходе, постепенно возрастающее возбуждение ван
Нордена достигает апогея. Он думает о женщинах, которых упустил в течение
вечера, и о тех "постоянных", которым только свистнуть, но ими он уже сыт по
горло. Он опять вспоминает свою "шлюху из Джорджии", которая последнее время
не дает ему покоя и просит, чтобы он разрешил ей пожить у него в номере --
хотя бы до тех пор, пока она не найдет себе работу. "Я ничего не имею против
того, чтоб иногда ее подкормить, -- говорит он. -- Но взять ее на постоянное
жительство я не могу... как же тогда я буду приводить других баб?" Что его
особенно расстраивает, так это ее худоба. "С ней спать -- все равно что со
скелетом, -- говорит он. -- Дня два назад я взял ее к себе -- из жалости --
и что, ты думаешь, эта ненормальная сделала? Она побрилась, ты понимаешь...
ни волоска между ногами. У тебя когда-нибудь была женщина с бритой п...? Это
безобразно. Ты не согласен? К тому же смешно. Да и дико. Это уже не п..., а
ракушка какая-то". Его любопытство было настолько велико, рассказывает ван
Норден, что он не поленился и вылез из постели, чтобы найти электрический
фонарик. "Я заставил ее раскрыть эту штуку и направил туда луч. Тебе надо
было меня видеть... прекомичная была сценка. Я до того увлекся, что даже
забыл про бабу. Никогда в жизни я не рассматривал п... так внимательно.
Можно было подумать, что я никогда ее раньше не видел. И чем больше я
смотрел, тем менее интересной она мне казалась. Просто видишь, что ничего в
ней нет интересного, особенно когда все кругом выбрито. Так хоть какая-то
загадочность. Потому-то статуи и оставляют тебя холодным. Только один раз я
видел статую с настоящей п... У Родена. Посмотри как-нибудь... такая, с
широко расставленными ногами. Я даже не помню, была ли у нее голова. Только
п... Ужасное зрелище! Дело в том, что все они одинаковы. Когда видишь их в
одежде, чего только не воображаешь; наделяешь их индивидуальностью, которой
у них конечно же нет. Только щель между ногами, но ты заводишься от нее,
хотя на самом деле и не очень-то на нее смотришь. Ты просто знаешь, что она
там, и только и думаешь, как бы закинуть туда палку;
Ты загораешься от ничего.. от щели, с волосами или без волос. Она настолько
бессмысленна, что я смотрел как завороженный. Я изучал ее минут десять или
даже больше. Когда ты смотришь на нее вот так, совершенно отвлеченно, в
голову приходят забавные мысли. Вся эта тайна пола... а потом ты
обнаруживаешь, что это ничто, пустота. Подумай, как было бы забавно найти
там губную гармонику... или календарь! Но там ничего нет... ничего. И вот
это-то и противно. Я чуть не свихнулся... Угадай, что я после всего этого
сделал. Я поставил ей быстрый пистон и повернулся задом... Взял книгу и стал
читать... Из книги, даже самой плохой, всегда можно что-нибудь почерпнуть, a
п... -- это, знаешь ли, пустая трата времени..."
подмигивает нам. Без малейшего перехода или подготовки он говорит мне:
"Послушай, а что, если мы переспим с ней? Это не очень дорого... она возьмет
нас обоих за те же деньги". И, не дожидаясь ответа, поднимается и идет к
ней. "Все в порядке. Допивай пиво. Она голодная. Все равно сейчас мы не
найдем ничего другого... Она возьмет нас обоих за пятнадцать франков. Пошли
ко мне -- так будет дешевле".
останавливаемся и заказываем ей кофе. Она оказалась довольно скромным
существом и совсем недурна собой. Вероятно, она знает ван Нордена и знает,
что от него ничего, кроме обещанных пятнадцати франков, не получишь. "Помни
-- у тебя нет денег", -- говорит он мне вполголоса. У меня действительно нет
ни сантима, и потому я не совсем его понимаю. Но тут он громко добавляет
по-английски: "Ради Бога, прикинься, что мы без гроша. Не размякай, когда мы
придем ко мне. Она будет стараться вытянуть из нас прибавку, я знаю эту
б...! Ее можно было бы подрядить и за десять франков, если б я захотел.
Зачем сорить деньгами?"
по-французски, очевидно, догадываясь о теме нашего разговора.
повесть про больницу, неоплаченную квартиру и ребенка в деревне. Однако она
не пересаливает -- ей известно, что все равно наши уши крепко запечатаны.
Просто она не может отключиться от своих несчастий -- это у нее точно камень
внутри, который она перекатывает с места на место. Мне она нравится. Только
бы она нас не заразила...
биде. Ван Норден смеется.
давай ей себя разжалобить. Но все-таки лучше бы она говорила о чем-нибудь
другом. Как, к черту, можно распалиться с голодной б...?
ней и говорить нечего. Ждать от нее хотя бы искры страсти можно с таким же
успехом, как ждать, что на ней окажется бриллиантовое ожерелье. Но тут
замешаны пятнадцать франков, и ни у нее, ни у нас уже нет хода назад. Это
как война. Во время войны все мечтают о мире, но ни у кого не хватает
мужества сложить оружие и сказать: "Довольно! Хватит с меня!"
наблюдая, как проститутка старается выжать из меня хоть какое-то подобие
страсти, и я понимаю, каким никудышным солдатом я был бы, если бы по
глупости попал на фронт. Случись такое, я б плюнул на все -- на совесть, на
честь, -- лишь бы выбраться из этого капкана. К тому же у меня попросту нет
вкуса к таким вещам, а тут уж ничего не поделаешь. Но проститутка думает
только о пятнадцати франках, она не дает мне забыть о них, напротив, она
побуждает меня к борьбе за них. Но как можно заставить человека идти в бой,
если у него нет ни малейшей охоты воевать? Есть трусы, из которых не
сделаешь героев, даже перепугав их насмерть. Не исключено, что у них слишком
развитое воображение. Есть люди, которые не живут настоящим, их мысли или
отстают, или забегают вперед. Мои мысли постоянно сосредоточены на мирном
договоре. Я не могу по забыть, что все эти неприятности начались из за
пятнадцати франков. Пятнадцать франков. Да что мне в этих пятнадцати
франках?! Тем более что они даже и не мои.
наплевать на пятнадцать франков, но сама ситуация увлекает его. В конце
концов на карту поставлено его мужское самолюбие, достоинство самца, а
пятнадцать франков все равно потеряны, независимо от того, выйдет у нас
что-нибудь или нет. Однако на карту поставлено и еще кое-что -- может быть,
не только мужское самолюбие, но и сила воли.
кажется, что передо мной буксующая машина. Если чья-то рука не выключит
мотор, колеса будут крутиться впустую до бесконечности. Зрелище этих двоих,
сношающихся, точно коза с козлом, без малейшей искры страсти, трущихся друг
о друга без всякого смысла, кроме смысла, заложенного в пятнадцати франках,
заглушает во мне все чувства, кроме одного -- какого-то нечеловеческого
любопытства. Девица лежит на краю постели, и согнувшийся над ней ван Норден
похож на сатира. Я сижу в кресле позади него и с холодным научным интересом
наблюдаю за их движениями, и мне все равно, даже если они будут так
двигаться бесконечно. Они, в сущности, ничем не отличаются от тех безумных
машин, что выбрасывают ежедневно миллионы, биллионы, триллионы газет с
кричащими бессмысленными заголовками. Однако работа безумной машины все же
разумней и интересней, чем работа этих двоих -- работа, в результате которой




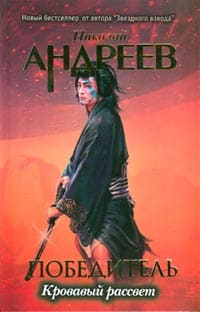

 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Куликов Роман
Куликов Роман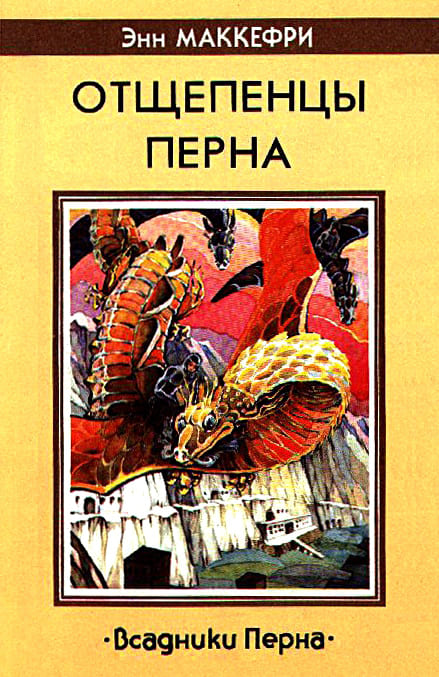 Маккефри Энн
Маккефри Энн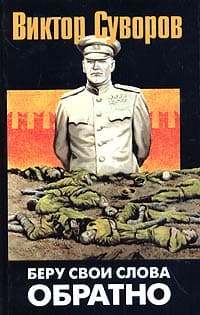 Суворов Виктор
Суворов Виктор Плотников Александр
Плотников Александр Мацумото Сэйте
Мацумото Сэйте