еще стоящих, но подгнивших колонн, среди этих разлагающихся людей. Наш мир
-- это ложь на фундаменте из огромного зыбучего страха. Если и рождается раз
в столетие человек с жадным ненасытным взором, человек, готовый перевернуть
мир, чтобы создать новую расу людей, то любовь, которую он несет в мир,
превращают в желчь, а его самого -- в бич человечества. Если является на
свет книга, подобная взрыву, книга, способная жечь и ранить вам душу,
знайте, что она написана человеком с еще не переломанным хребтом, человеком,
у которого есть только один способ зашиты от этого мира -- слово; и это
слово всегда сильнее всеподавляющей лжи мира, сильнее, чем все орудия пыток,
изобретенные трусами для того, чтобы подавить чудо человеческой личности.
"щель" или "дыра", если б кто-то объяснил хотя бы частично ту тайну, которая
окружает явление, ^именуемое "непристойным", мир перестал бы существовать.
Этот непристойный, сухой, раздолбанный взгляд на вещи и придает нашей
сумасшедшей цивилизации форму кратера. Этот кратер и есть та великая зияющая
пропасть небытия, которую титаны духа и матери человечества носят между
ногами. Человек, чей дух жаден и ненасытен, человек, заставляющий визжать
всех этих подопытных кроликов, хорошо знает, что ему делать с энергией,
таящейся в половом влечении; он знает, что под панцирем безразличия всегда
можно найти безобразную глубокую незаживающую рану. И он знает, как
вонзиться в нее, как уязвить самые сокровенные ее глубины. Ему не нужны
резиновые перчатки. Он знает, что все, подвластное интеллекту, -- лишь
оболочка, и потому, отбросив ее, он идет прямо к этой открытой ране, к этому
гниющему непристойному cтpaxy. И даже если от этого совокупления родится
только кровь и гной, все равно в нем есть живое дыхание жизни. Сухой,
раздолбанный кратер, может быть, и непристоен. Паралич -- богохульство более
страшное, чем самое ужасное ругательство. И если в мире ничего не останется,
кроме этой открытой раны, мир будет жить, потому что она не бесплодна, хотя
и родит только жаб, летучих мышей и ублюдков.
здоровое и удобное плоскогорье, а огромная самка с бархатным телом, которая
дышит, дрожит и страдает под бушующим океаном. Голая и похотливая, она
кружится среди облаков в фиолетовом мерцании звезд. И вся она -- от грудей
до мощных ляжек -- горит вечным огнем. Она несется сквозь годы и столетия, и
конвульсии сотрясают ее тело, пароксизм неистовства сметает паутину с неба,
а ее возвращение на основную орбиту сопровождается вулканическими толчками.
Иногда она затихает и похожа тогда на оленя, попавшего в западню и лежащего
там с бьющимся сердцем и округлившимися от ужаса глазами, на оленя,
боящегося услышать рог охотника и лай собак. Любовь, ненависть, отчаяние,
жалость, негодование, отвращение -- что все это значит по сравнению с
совокуплением планет? Что значат войны, болезни, ужасы, жестокости, когда
ночь приносит с собой экстаз бесчисленных пылающих солнц? И что же тогда
наши сновидения, как не воспоминания о кружащейся туманности или россыпи
звезд?
человек". И хотя она ушла, бросила меня погибать здесь, хотя она оставила
меня на краю завывающей пропасти, ее слова все еще звучат в моей душе и
освещают тьму подо мной. Я потерялся в толпе, шипящие огни одурманили меня,
я нуль, который видел, как все вокруг обратилось в издевку. Мона смотрела на
меня через стол подернутыми грустью глазами; тоска, которая росла в ней,
расплющивала нос о ее спину; костный мозг, размытый жалостью, превратился в
жидкость. Она была легка, как труп, плавающий в Мертвом море. Ее пальцы
кровоточили горем, и кровь обращалась в слюну. С мокрым рассветом пришел
колокольный звон, и колокола прыгали по кончикам моих нервов, и их языки
били в мое сердце со злобным железным гулом. Этот колокольный звон был
странен, но еще страннее было разрывающееся тело, эта женщина,
превратившаяся в ночь, и ее червивые слова, проевшие матрац. Я продвигался
по экватору, я слышал безобразный хохот гиен с зелеными челюстями, я видел
шакала с шелковым хвостом, ягуара и пятнистого леопарда, забытых в саду
Эдема. Потом ее тоска расширилась, точно нос приближающегося броненосца, и,
когда он стал тонуть, вода залила мне уши. Я слышал, как почти бесшумно
повернулись орудийные башни и извергли свою слюнявую блевотину; небо
прогнулось, и звезды потухли. Я видел черный кровоточащий океан и тоскующие
звезды, разрешающиеся вспухающими кусками мяса, и птицы метались в вышине, а
с неба свешивались весы со ступкой и пестиком и фигура правосудия с
завязанными глазами. Все, что здесь описано, движется на воображаемых ногах
по мертвым сферам; все, что увидено пустыми глазницами, буйно расцветает,
как весенние травы. Потом из пустоты возникает знак бесконечности; под
уходящими вверх спиралями медленно тонет зияющее отверстие. Земля и вода
соединяют цифры в поэму, написанную плотью, и эта поэма крепче стали и
гранита. Сквозь бесконечную ночь Земля несется к неизвестным мирам...
на устах, с абракадаброй на языке, повторяя, как молитву:
хочешь, но пусть сделанное приносит радость. Делай что хочешь, но пусть
сделанное вызывает экстаз. Когда я повторяю эти слова, в голову мне лезут
тысячи образов -- веселые, ужасные, сводящие с ума: волк и козел, паук,
краб, сифилис с распростертыми крыльями и матка с дверцей на шарнирах,
всегда открытая и готовая поглотить все, как могила. Похоть, преступление,
святость, жизнь тех, кого я люблю, их ошибки, слова, которые они говорили,
слова, которые они не договорили, добро, которое они принесли, и зло, горе,
несогласие, озлобленность и споры, которые они породили. Но главное -- это
экстаз!
подгоняемый ветром; мой язык сгнил, и вместо него изо рта выползают змеи и
торчат страницы рукописи, написанные в экстазе, а теперь измаранные
испражнениями. И я часть этой гнили, этих испражнений, этого безумия, этого
экстаза, которые пронизывают огромные подземные склепы плоти. Вся эта
непрошенная, ненужная пьяная блевотина будет протекать через мозги тех, кто
появится в бездомном сосуде, заключающем в себе историю рода человеческого.
Но среди народов Земли живет особая раса. она вне человечества, -- это раса
художников. Движимые неведомыми побуждениями, они берут безжизненную массу
человечества и, согревая ее своим жаром и волнением, претворяют сырое тесто
в хлеб, а хлеб в вино, а вино в песнь -- в захватывающую песнь, сотворенную
ими из мертвого компоста и инертного шлака. Я вижу, как эта особая раса
громит вселенную, переворачивает все вверх тормашками, ступает по слезам и
крови, и ее руки простерты в пустое пространство -- к Богу, до которого
нельзя дотянуться. И когда они рвут на себе волосы, стараясь понять и
схватить то, чего нельзя ни понять, ни схватить, когда они ревут, точно
взбесившиеся звери, рвут и терзают все, что стоит у них на дороге, лишь бы
насытить чудовище, грызущее их кишки, я вижу, что другого пути для них нет.
Человек, принадлежащий этой расе, должен стоять на возвышении и грызть
собственные внутренности. Для него это естественно, потому что такова его
природа. И все, что менее ужасно, все, что не вызывает подобного потрясения,
не отталкивает с такой силой, не выглядит столь безумным, не пьянит так и не
заражает, -- все это не искусство. Это -- подделка. Зато она, человечна.
Зато она примиряет жизнь и безжизненность.
генеалогическое древо. Я не знаю ничего, что записано в звездах или в моей
крови. Я знаю, что произошел от мифических основателей расы. Человек,
подносящий бутылку со святой водой к губам;
обнаруживший, что все трупы воняют; сумасшедший, танцующий с молнией в руке;
священник, поднимающий рясу, чтобы нассать на мир; фанатик, громящий
библиотеки в поисках Слова, -- все они соединились во мне, от них моя
путаница, мой экстаз. И если я вне человечества, то только потому, что мои
мир перелился через свой человеческий край, потому, что быть человечным --
скучное и жалкое занятие, ограниченное нашими пятью чувствами, моралью и
законом, определяемое затасканными теориями и трюизмами. Я лью в глотку сок
винограда и нахожу в этом мудрость, но моя мудрость не связана с виноградом,
мое опьянение не от вина...
обречены все без исключения, если так, то соединим же наши усилия в
последний вопль агонии, вопль, наводящий ужас, вопль -- оглушительный визг
протеста, исступленный крик последней атаки. К черту жалобы! К черту
скорбные и погребальные песнопения! Долой жизнеописания и историю, музеи и
библиотеки! Пусть мертвые пожирают мертвых. И пусть живые несутся в танце по
краю кратера -- это их последняя предсмертная пляска. Но -- пляска!
времени. Я думал о нем сегодня утром, когда проснулся с громким радостным
воплем; я думал о его реках и деревьях, и обо всем том ночном мире, который
он исследовал. Да, сказал я себе, я тоже люблю все, что течет: реки, сточную
канаву, лаву, сперму, кровь, желчь, слова, фраз. Я люблю воды, льющиеся из
плодного пузыря. Я люблю почки с их камнями, песком и прочими
удовольствиями; люблю обжигающую струю мочи и бесконечно текущий триппер;
дизентерия, и отражают все больные образы души; я люблю великие реки, такие,
как Амазонка и Ориноко, по которым безумцы вроде Мораважина плывут сквозь
мечту и легенду в открытой лодке и тонут в слепом устье. Я люблю все, что
течет, -- даже менструальную кровь, вымывающую бесплодное семя. Я люблю
рукописи, которые текут, независимо от их содержания -- священного,
эзотерического, извращенного, многообразного или одностороннего. Я люблю
все, что течет, все, что заключает в себе время и преображение, что
возвращает нас к началу, которое никогда не кончается: неистовство пророков,
непристойность, в которой торжествует экстаз, мудрость фанатика, священника
с его резиновой литанией, похабные слова шлюхи, плевок, который уносит





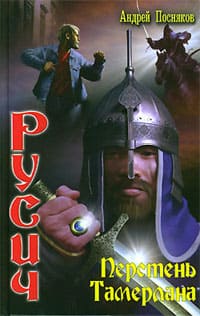
 Шилова Юлия
Шилова Юлия Каргалов Вадим
Каргалов Вадим Лукин Евгений
Лукин Евгений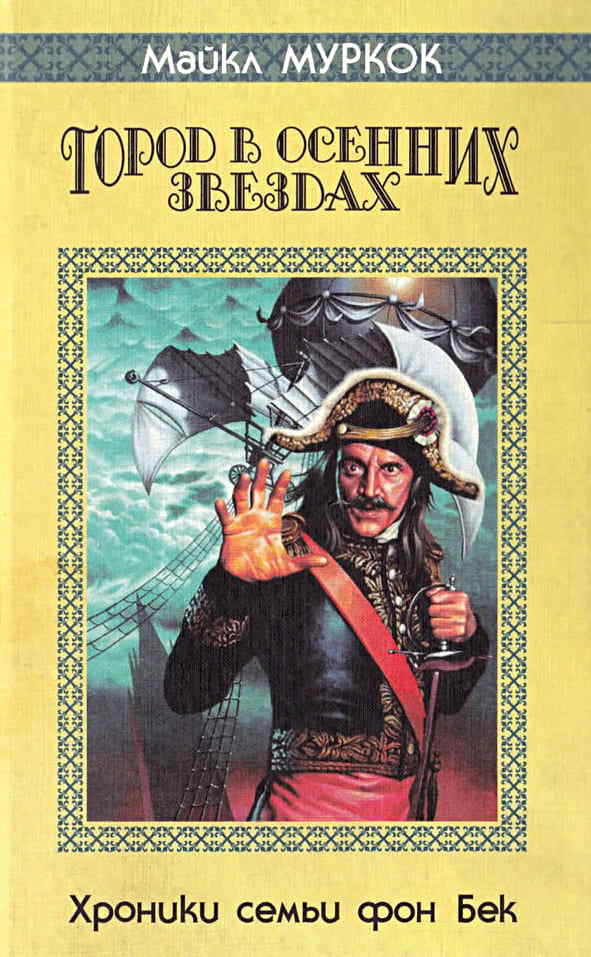 Муркок Майкл
Муркок Майкл Флинт Эрик
Флинт Эрик Афанасьев Роман
Афанасьев Роман