поперечно-полосатая лента сантиметра, без конца мерило мои бессонницы. Мне
было так же трудно уснуть, как чихнуть без гусара или покончить с собой
собственными средствами (проглотив язык, что-ли). В начале мученической ночи
я еще пробавлялся тем, что переговаривался с Таней, кровать которой стояла в
соседней комнате; дверь мы приоткрывали, несмотря на запрет, и потом, когда
гувернантка приходила в свою спальню, смежную с Таниной, один из нас дверь
легонько затворял: мгновенный пробег босиком и скок в постель. Из комнаты в
комнату мы долго задавали друг другу шарады, замолкая (до сих пор слышу тон
этого двойного молчания в темноте) она -- для разгадки моей, я -- для
придумывания новой. Мои были всегда попричудливее да поглупее, Таня же
придерживалась классических образцов:
Иногда она засыпала, пока я доверчиво ждал, думая, что она бьется над моей
загадкой, и ни мольбами, ни бранью мне уже не удавалось ее воскресить. С час
после этого я путешествовал в потемках постели, накидывая на себя простыню и
одеяло сводом, так чтобы получилась пещера, в далеком, далеком выходе
которой пробивался сторонкой синеватый свет, ничего общего не имевший с
комнатой, с невской ночью, с пышными, полупрозрачными опадениями темных
штор. Пещера, которую я исследовал, содержала в складках своих и провалах
такую томную действительность, полнилась такой душной и таинственной мерой,
что у меня как глухой барабан начинало стучать в груди, в ушах; и там, в
глубине, где отец мой нашел новый вид летучей мыши, я различал скулы идола,
высеченного в скале, а когда наконец забывался, то меня десяток рук
опрокидывали, и кто-то с ужасным шелковым треском распарывал меня сверху до
низу, после чего проворная ладонь проникала в меня и сильно сжимала сердце.
А не то я бывал обращен в кричащую монгольским голосом лошадь: камы
посредством арканов меня раздирали за бабки, так что ноги мои с хрустом
ломаясь, ложились под прямым углом к туловищу, грудью прижатому к желтой
земле, и, знаменуя крайнюю муку, хвост стоял султаном; он опадал, я
просыпался.
Странно, каким восковым становится воспоминание, как подозрительно хорошеет
херувим по мере того, как темнеет оклад, -- странное, странное происходит с
памятью. Я выехал семь лет тому назад; чужая сторона утратила дух
заграничности, как своя перестала быть географической привычкой. Год Семь.
Бродячим призраком государства было сразу принято это летоисчисление,
сходное с тем, которое некогда ввел французский ражий гражданин в честь
новорожденной свободы. Но счет растет, и честь не тешит; воспоминание либо
тает, либо приобретает мертвый лоск, так что взамен дивных привидений нам
остается веер цветных открыток. Этому не поможет никакая поэзия, никакой
стереоскоп, лупоглазо и грозно-молчаливо придающий такую выпуклость куполу и
таким бесовским подобием пространства обмывающий гуляющих с карлсбадскими
кружками лиц, что пуще рассказов о кампании, меня мучили сны после этого
оптического развлечения: аппарат стоял в приемной дантиста, американца
Lawson, сожительница которого Mme Ducamp, седая гарпия, за своим письменным
столом среди флаконов кроваво-красного Лоусоновского элексира, поджимая губы
и скребя в волосах суетливо прикидывала, куда бы вписать нас с Таней, и
наконец, с усилием и скрипом, пропихивала плюющееся перо промеж la Princesse
Toumanoff с кляксой в конце и Monsieur Danzas с кляксой в начале. Вот
описание поездки к этому дантисту, предупредившему накануне, что that one
will have to come out...
"Ватная шапка" -- будучи к тому же и двусмыслицей, совсем не выражает того,
что требовалось: имелся в виду снег, нахлобученный на тумбы, соединенные
цепью где-то по близости памятника Петра. Где-то! Боже мой, я уже с трудом
собираю части прошлого, уже забываю соотношение и связь еще в памяти
здравствующих предметов, которые вследствие этого и обрекаю на отмирание.
Какая тогда оскорбительная насмешка в самоуверении, что
Что же понуждает меня слагать стихи о детстве, если все равно пишу зря,
промахиваясь словесно или же убивая и барса и лань разрывной пулей "верного"
эпитета? Но не будем отчаиваться. Он говорит, что я настоящий поэт, --
значит, стоило выходить на охоту.
городской зимы; как например: когда чулки шерстят в поджилках, или когда на
руку, положенную на плаху прилавка, приказчица натягивает тебе невозможно
плоскую перчатку. Упомянем далее: двойной (первый раз соскочило) щипок
крючка, когда тебе, расставившему руки, застегивают меховой воротник; зато
какая занимательная перемена акустики, гмкость звука, когда воротник поднят;
и если мы уже коснулись ушей: как незабвенна музыка шелковой тугости при
завязывании (подними подбородок) ленточек шапочных наушников.
втором слоге) сад -- явление: продавец воздушных шаров. Над ним, втрое
больше него, -- огромная шуршащая гроздь. Смотрите, дети, как они
переливаются и трутся, полные красного, синего, зеленого солнышка божьего.
Красота! Я хочу, дяденька, самый большой (белый, с петухом на боку, с
красным детенышем, плавающим внутри, который, по убиении матки, уйдет к
потолку, а через день спустится, сморщенный и совсем ручной). Вот счастливые
ребята купили шар за целковый, и добрый торговец вытянул его из теснящейся
стаи. Погоди, пострел, не хватай, дай отрезать. После чего он снова надел
рукавицы, проверил, ладно ли стянут веревкой с ножницами и, оттолкнувшись
пятой, тихо начал подниматься стояком в голубое небо, всг выше и выше, вот
уж гроздь его не более виноградной, а под ним -- дымы, позолота, иней
Санкт-Петербурга, реставрированного, увы, там и сям по лучшим картинам
художников наших.
собственные призраки, и получалось это бесконечно талантливо. Мы с Таней
издевались над салазками сверстников, особенно если были они крытые ковровой
материей с висячей бахромой, высоким сидением (снабженным даже грядкой) и
вожжиками, за которые седок держался, тормозя валенками. Такие никогда не
дотягивали до конечного сугроба, а почти сразу выйдя из прямого бега,
беспомощно крутились вокруг своей оси, продолжая спускаться, с бледным
серьезным ребенком, принужденным по замирании их, толчками собственных
ступней, сидя, подвигаться вперед, чтобы достигнуть конца ледяной дорожки. У
меня и у Тани были увесистые брюшные санки от Сангалли: прямоугольная
бархатная подушка на чугунных полозьях скобками. Их не надо было тащить за
собой, они шли с такой нетерпеливой легкостью по зря усыпанному песком
снегу, что ударялись сзади в ноги. Вот горка.
(взнашивая ведра, чтобы скат обливать, воду расплескивали, так что ступени
обросли корою блестящего льда, но всг это не успела объяснить
благонамеренная аллитерация).





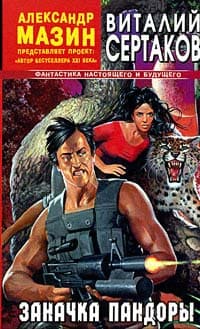
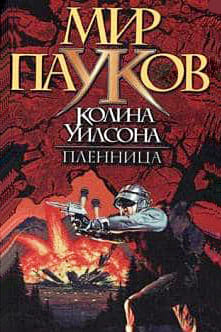 Прозоров Александр
Прозоров Александр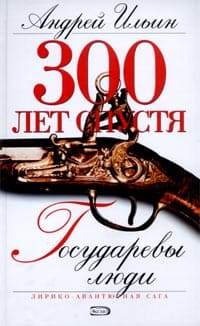 Ильин Андрей
Ильин Андрей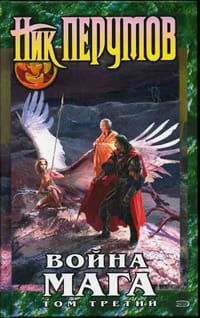 Перумов Ник
Перумов Ник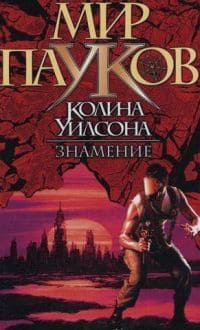 Прозоров Александр
Прозоров Александр Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий