Владимиp Набоков.
Пнин (в переводе С.Ильина)
* Глава первая *
1
вагона, рядом с пустым сиденьем и лицом к двум другим, тоже пустым, был
никто иной, как профессор Тимофей Пнин. Идеально лысый, загорелый и чисто
выбритый, он казался, поначалу, довольно внушительным -- обширное коричневое
чело, очки в черепаховой оправе (скрывающие младенческое отсутствие бровей),
обезьянье надгубье, толстая шея и торс силача в тесноватом твидовом пиджаке,
-- впрочем, осмотр завершался своего рода разочарованием: журавлиными
ножками (в эту минуту обтянутыми фланелью и перекрещенными) с хрупкими на
вид, почти что женскими ступнями.
полуботинки "оксфорды", обошлись ему почти во столько же, во сколько вся
остальная его одежда (включая и бандитский огненный галстук). До начала 40-х
годов, в степенную европейскую пору его жизни, он всегда носил длинные
кальсоны, окончанья которых заправлялись в опрятные шелковые носки умеренной
расцветки и со стрелкой, державшихся на обтянутых бумазеей икрах при помощи
подвязок. В те дни обнаружить хотя бы на миг белизну этих исподних, слишком
высоко поддернув штанины, представлялось Пнину столь же постыдным, сколь
появление перед дамами без воротничка и галстука; ибо даже когда увядшая
мадам Ру -- консьержка убогого доходного дома в шестнадцатом округе Парижа,
где Пнин скоротал пятнадцать лет после бегства из ленинизированной России и
завершения университетского образования в Праге, -- поднималась к нему за
платой, чопорный Пнин, если он еще был без faux col1, прикрывал горловую
запонку целомудренной дланью. Все изменилось в пьянительной атмосфере Нового
Света. Ныне, в пятьдесят два года, он был помешан на солнечных ваннах, носил
спортивные рубашки и просторные брюки, укладывая же ногу на ногу, прилежно,
намеренно и бесстыдно обнаруживал огромный кусок оголенной голени. Таким мог
увидеть его попутчик; впрочем, исключая солдата, спавшего в одном конце
вагона, и двух женщин, поглощенных дитятей в другом, весь вагон принадлежал
Пнину.
знал, как не знал и кондуктор, уже пролагавший по поезду путь к вагону
Пнина. Собственно говоря, Пнин в эту минуту был весьма собою доволен.
Приглашая его прочесть ежепятничную лекцию в Кремоне -- это примерно в
двухстах верстах к западу от Вайнделла, академического пристанища Пнина с
1945 года, вице-президентша Женского клуба Кремоны мисс Джудит Клайд
посоветовала нашему другу ехать наиболее удобным поездом, оставляющим
Вайнделл в 1:52 пополудни и приходящим в Кремону в 4:17; однако Пнин,
который подобно многим русским испытывал необычайное пристрастие ко всякого
рода расписаниям, картам, каталогам, коллекционировал их, -- особливо
бесплатные -- со свежительной радостью человека, получающего нечто ни за
что, и который с особенной гордостью сам разбирал расписания, обнаружил,
проведя своего рода исследование, неприметную метку подле еще более удобного
поезда (отпр.Вайнделл 2:19, приб.Кремона 4:32); метка означала, что по
пятницам и только по пятницам поезд "2:19" останавливается в Кремоне на пути
в далекий, гораздо больший город, украшенный столь же сочным итальянским
именем. К несчастию для Пнина, расписание ему попалось пятилетней давности и
несколько устаревшее.
провинциальном заведении, отличительными чертами которого были:
искусственное озерцо посреди кампуса с подправленным ландшафтом, увитые
плющом связующие здания галереи, фрески с довольно похожими изображеньями
преподавателей в миг передачи ими светоча знаний от Аристотеля, Шекспира и
Пастера толпе устрашающе сложенных фермерских сыновей и дочурок, и обширное,
деятельное, пышно цветущее отделение германистики, которое возглавлявший его
доктор Гаген не без самодовольства называл (весьма отчетливо выговаривая
каждый слог) "университетом в университете".
русского языка включал одну студентку промежуточной группы, полную и
старательную Бетти Блисс, одного, известного лишь по имени (Иван Дуб -- он
так и не воплотился), в группе повышенной сложности и трех в процветавшей
начальной: Джозефину Малкин, чьи дед и бабка происходили из Минска, Чарльза
Макбета, чудовищная память которого уже поглотила десяток языков и готова
была похоронить еще десять, и томную Эйлин Лэйн, -- этой кто-то внушил, что,
овладев русским алфавитом, она сумеет без особых затруднений прочесть "Анну
Карамазову" в оригинале. Как преподаватель, Пнин едва ли годился в соперники
тем рассеянным по всей ученой Америке поразительным русским дамам, которые,
не имея вообще никакого особого образования, ухитряются с помощью интуиции,
говорливости и своего рода материнской пылкости чудесным образом сообщать
знание своего сложного и прекрасного языка группе невинноочитых студентов,
погружая их в атмосферу песен о " Волге-матушке", чая и красной икры; в то
же время Пнин-преподаватель даже и не осмеливался хотя бы приблизиться к
величественным чертогам современной научной лингвистики, к этому
аскетическому братству фонем, к храму, в котором ревностные молодые люди
изучают не сам язык, но метод научения других людей способам обучения этому
методу, каковой метод, подобно водопаду, плещущему со скалы на скалу,
перестает уже быть средой разумного судоходства и, возможно, лишь в
некотором баснословном будущем сумеет обратиться в инструмент для разработки
эзотерических наречий -- Базового Баскского и ему подобных, -- на которых
будут разговаривать одни только хитроумные машины. Вне всяких сомнений,
подход Пнина к его работе был и любительским, и легковесным, основанным, по
существу, на упражнениях из грамматики, изданной главой отделения славистики
гораздо большего, чем вайнделлский, университета, -- маститым мошенником
(русский язык его отдавал анекдотом, но он щедро ссужал свое достославное
имя произведениям безымянных поденщиков). Пнин, при множестве недостатков,
обладал обезоруживающим старомодным обаянием, которое, как уверял угрюмых
попечителей университета стойкий защитник Пнина доктор Гаген, представляло
собой изящный импортный товар, достойный оплаты в местной валюте. И хоть
степень по социологии и политической экономии, с определенной помпой
полученная Пниным в 1925 году в Пражском университете, к середине века уже
ничего не значила, роль преподавателя русского языка вовсе не была для него
непосильной. Его любили не за какие-то особые дарования, но за незабываемые
отступления, когда он снимал очки, чтобы улыбнуться прошлому, массируя тем
временем линзы настоящего. Ностальгические отступления на ломанном
английском. Лакомые крохи автобиографии. О том, как Пнин прибыл в Soedinyon
nпe shtatп: -- Проверка на корабле перед высадкой. Очень хорошо! "Что-то для
декларации?" -- Ничего. -- "Очень хорошо!" -- Он спрашивает: "Вы анархист?"
-- Я отвечаю, -- рассказчик берет тайм-аут, чтобы предаться уютному немому
веселью, -- во-первых, что мы будем понимать под словом "анархизм"? Анархизм
практический, метафизический, теоретический, отвлеченный, мистический,
индивидуальный, социальный? "Когда я был молод, -- говорю я ему, -- все это
для меня имело значение." -- Мы имели очень интересную дискуссию, вследствие
которой я провел на Эллис-Айленд две целых недели, - чрево начинает
вздыматься; вздымается; рассказчик бьется в конвульсиях.
таинственным выраженьем благодетельный Пнин, припасший для деток дивное
лакомство, которое когда-то пробовал сам, и уже обнаруживший в невольной
улыбке неполный, но пугающий набор пожелтелых зубов, открывал на кожаной
изящной закладке, предусмотрительно им туда вложенной, потрепанную русскую
книгу. Он открывал ее и немедля, -- случалось это так же часто, как и не
случалось, -- выражение крайнего смятения искажало его живые черты:
приоткрыв рот, он принимался лихорадочно перелистывать книгу во всех
направлениях; порой проходили минуты, прежде чем он находил нужную страницу,
-- или убеждался, наконец, что все же верно ее заложил. Выбираемый им
отрывок происходил обычно из какой-нибудь старой и простодушной комедии
купеческих нравов, на скорую руку состряпанной Островским почти столетие
назад, или из столь же почтенного, но еще более одряхлевшего образчика
основанной на словоискажениях пустой лесковской веселости. Пнин
демонстрировал этот лежалый товар скорее с полнозвучным пылом классической
Александринки, нежели с суховатой простотой Московского Художественного;
поскольку, однако, для уяснения хоть какой ни на есть забавности, еще
сохранившейся в этих отрывках, требовалось не только порядочное владение
разговорной речью, но и немалая литературная умудренность, а его бедный
маленький класс не отличался ни тем ни другим, исполнитель наслаждался
ассоциативными тонкостями текста в одиночку. Воздымание, отмеченное нами в
иной связи, становилось теперь похожим на истинное землетрясение. Нацелив
память на дни своей пылкой и восприимчивой юности, -- полный свет, все маски
разума пляшут в пантомиме, -- в бриллиантовый космос, кажущийся еще более
свежим оттого, что история прикончила его единым ударом, -- Пнин пьянел от
собственных вин, предъявляя один за другим образцы того, что, как вежливо
полагали слушатели, представляло собой русский юмор. Наконец, веселье
становилось для него непосильным, грушевидные слезы катили по загорелым
щекам. Не только жуткие зубы его, но и немалая часть розоватой верхней десны
выскакивала вдруг, будто черт из табакерки, рука взлетала ко рту, крупные
плечи тряслись и перекатывались. И хоть слова, придушенные пляшущей рукой,
были теперь вдвойне неразличимы для класса, полная его сдача собственному
веселью оказывалась неотразимой. К тому времени, когда сам он становился
совсем беспомощным, студенты уже валились на пол от хохота: Чарльз
прерывисто лаял, как заводной, ослепительный ток неожиданно прелестного
смеха преображал лишенную миловидности Джозефину, а Эйлин, отнюдь ее не
лишенная, студенисто тряслась и неприлично хихикала.



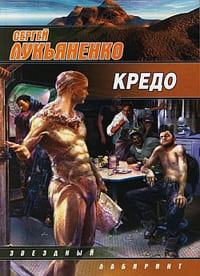

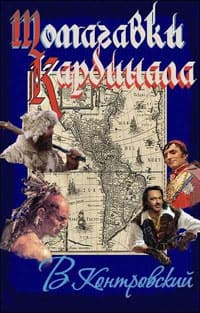
 Сертаков Виталий
Сертаков Виталий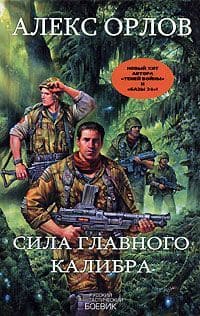 Орлов Алекс
Орлов Алекс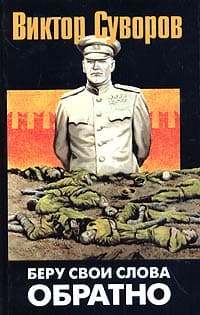 Суворов Виктор
Суворов Виктор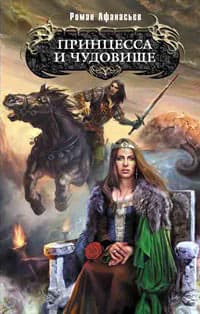 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман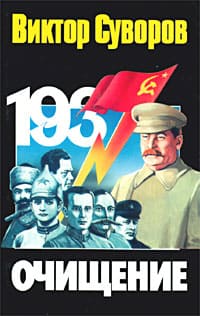 Суворов Виктор
Суворов Виктор Никитин Юрий
Никитин Юрий