индиговые волны ее, вздымаясь, плещут в береговой гранит, и причаленные к
стенке огромные буксиры и барки мерно трутся и скрипят, и медь и красное
дерево заякоренных паровых яхт сияют под изменчивым солнцем. Я испытывал
прекрасный новый английский велосипед, подаренный мне на двенадцатый день
рождения, и пока я катил к нашему розоватого камня дому на Морской по
гладкой, ровно паркет, деревянной панели, сознание того, что я серьезнейшим
образом ослушался гувернера, терзало меня меньше, чем зернышко жгучей боли
на крайнем севере моего глазного яблока. Домашние средства вроде
прикладывания ватки, смоченной в холодном чае, или примененья методы,
называемой "три к носу", только ухудшили положение, и когда я назавтра
проснулся, то, что засело под верхним веком, ощущалось как твердый
многогранник, при каждом слезливом моргании погружавшийся на все большую
глубину. В полдень меня свезли к лучшему окулисту, доктору Павлу Пнину.
детском сознании, размечает пространство времени, проведенного мною и
гувернером в заполненной солнечной пылью и плюшем приемной д-ра Пнина, где
голубой мазок окна миниатюрно отражался в стеклянном колпаке золоченых
бронзовых часов на камине, и пара мух описывала медленные четырехугольники
вокруг безжизненной люстры. Дама в шляпе с плюмажем и ее муж в темных очках,
храня супружеское безмолвие, сидели на диване; вошел кавалерийский офицер и
присел с газетой к окну; затем муж удалился в кабинет д-ра Пнина; а затем я
заметил странное выражение на лице моего гувернера.
даме. По-французски он бегло корил ее за что-то, сделанное или не сделанное
вчера. Она протянула ему для поцелуя руку в перчатке. Он приник к
перчаточному глазку -- и ушел, излеченный от своего недуга, в чем бы тот ни
заключался.
очертаньями уха и верхней губы д-р Павел Пнин очень походил на Тимофея,
каким тот стал через три-четыре десятка лет. Впрочем, у отца бахрома
соломенных волос оживляла восковую плешь; он, подобно покойному доктору
Чехову, носил пенсне в черной оправе на черном же шнурке; он говорил слегка
заикаясь, голосом вовсе не похожим на будущий голос сына. И какое
божественное облегчение испытал я, когда с помощью крохотного инструмента,
похожего на барабанную палочку эльфа, ласковый доктор удалил у меня из глаза
преступный черный атом! Интересно, где она теперь, эта соринка? Сводящий с
ума, наводящий уныние факт, -- где-то ведь она существует.
людей среднего достатка, у меня безотчетно сложился образ квартиры Пнина,
вернее всего, отвечающий истине. А потому могу сообщить здесь, что она,
возможно (а возможно и нет), состояла из двух порядков комнат, разделенных
длинным коридором; по одной стороне -- приемная, кабинет доктора, дальше,
предположительно, столовая и гостиная; а по другой -- две или три спальни,
классная, ванная, комната прислуги и кухня. Я уже уходил с флаконом глазной
примочки, а мой гувернер, пользуясь случаем, выспрашивал у д-ра Пнина может
ли перенапряжение глаз вызывать расстройство желудка, когда отворилась и
затворилась входная дверь. Д-р Пнин проворно вышел в переднюю, о чем-то
спросил, получил тихий ответ и вернулся с сыном Тимофеем, гимназистом
тринадцати лет, одетым в гимназическую форму: черная рубаха, черные штаны,
глянцевый черный ремень (я учился в более либеральной школе, мы одевались
там кто во что горазд).
Да, явственно. Я помню даже, как он неприметно вывернул плечо из-под гордой
отцовской руки, когда гордый отцовский голос сказал: "Этот мальчик только
что получил пять с плюсом на экзамене по алгебре". Из дальнего конца
коридора несся сильный запах кулебяки с капустой, а за открытой дверью
классной виднелась карта России на стене, книги на полке, чучело белки и
игрушечный моноплан с полотняными крыльями и резиновым моторчиком. У меня
был похожий, купленный в Биаррице, только в два раза крупней. Если долго
вертеть пропеллер, резинка начинала навиваться по-иному, занятно
скручиваясь, что предвещало близость ее конца.
2
мама, младший брат и я приехали погостить к скучнейшей старой тетке в ее
удивительно запущенную усадьбу, расположенную невдалеке от знаменитого
балтийского курорта. Как-то после полудня, когда я, испытывая
сосредоточенный восторг, расправлял исподом вверх исключительно редкую
аберрацию большой перламутровки, у которой серебристые полосы, украшающие
изнанку задних крыльев, соединялись, придавая им ровный металлический отлив,
вошел слуга с сообщением, что старая госпожа призывает меня к себе. Я нашел
ее в гостиной за разговором с двумя сконфуженными молодыми людьми в
студенческих тужурках. Один, покрытый светлым пушком, был Тимофеем Пниным,
другой, с рыжеватой челкой, -- Григорием Белочкиным. Они пришли испросить у
моей двоюродной бабушки разрешения использовать стоящую на границе ее
владений пустую ригу для постановки пьесы. Ставился русский перевод
трехактной "Liebelei" Артура Шницлера. Справиться с этой затеей им помогал
Анчаров, полупрофессиональный провинциальный актер, репутация которого
зиждилась по-преимуществу на поблеклых газетных вырезках. Не приму ли и я
участия? Однако в шестнадцать лет я был столь же заносчив, сколь и
застенчив, -- и отверг роль безымянного Господина в акте первом. Переговоры
закончились общим замешательством, отнюдь не разряженным тем, что Пнин или
Белочкин опрокинул стакан грушевого квасу, -- и я вернулся к моим бабочкам.
Две недели спустя меня каким-то образом уговорили посетить представление.
Ригу заполняли дачники и раненные солдаты из ближнего лазарета. Я пришел
вместе с братом, а с нами рядом сидел эконом бабушкина именья Роберт
Карлович Горн, веселый толстяк из Риги с налитыми кровью фарфоровыми
глазами, от всей души хлопавший в самых неподходящих местах. Помню запах
украсившей ригу хвои, и глаза деревенских детей, поблескивавшие сквозь щели
в стенах. Первые ряды стояли так близко к помосту, что когда обманутый муж
выхватил пачку любовных писем, написанных его жене Фрицем Лобгеймером,
студентом и драгуном, и швырнул их Фрицу в лицо, было с полной ясностью
видно, что это -- старые почтовые открытки с отрезанными марочными уголками.
Я совершенно убежден, что небольшую роль этого гневного Господина сыграл
Тимофей Пнин (хотя, разумеется, в дальнейших актах он мог появляться в иных
ролях); впрочем, желтое пальто, пушистые усы и темный парик, посередке
разделенный пробором, так преображали его, что микроскопический интерес,
возбуждавшийся во мне его существованием, вряд ли может служить порукой
какой-либо сознательной уверенности с моей стороны. Фриц, молодой любовник,
обреченный пасть на дуэли, не только завел за сценой загадочную интрижку с
Дамой в Черном Бархате, женой Господина, он играл также сердцем Христины,
наивной венской девушки. Роль Фрица исполнял плотный сорокалетний Анчаров в
жгуче-коричневом гриме, он ударял себя в грудь с таким звуком, будто ковер
выбивал, а его импровизированные усовершенствования роли, до заучивания
которой он не снизошел, почти парализовали приятеля Фрица -- Теодора Кайзера
(Григорий Белочкин). Особа, бывшая в подлинной жизни состоятельной старой
девой, которую обхаживал Анчаров, весьма неумело изображала Христину
Вейринг, дочь скрипача. Роль модисточки Мизи Шлягер, возлюбленной Теодора,
очаровательно исполнила хорошенькая девушка с нежной шеей и бархатными
глазами, сестра Белочкина, она и заслужила в тот вечер самые долгие
рукоплескания.
3
гражданской войны я имел случай вспомнить д-ра Пнина с его сыном. Если я и
восстанавливаю ранние впечатления в каких-то подробностях, то лишь для того,
чтобы показать, какие мысли мелькнули в моем уме, когда в самом начале
двадцатых, апрельским вечером, в парижском кафе, я пожимал руку
русобородого, ясноглазого Тимофея Пнина, молодого, но сведущего автора
нескольких превосходных статей по русской культуре. У эмигрантских писателей
и художников имелось обыкновение собираться в "Трех фонтанах" после читок
или лекций, столь популярных тогда среди русских изгнанников; вот после
одного из таких событий я, еще охриплый от чтения, попытался не только
напомнить Пнину о прежних наших встречах, но также потешить его и окружающих
чрезвычайной ясностью и силой моей памяти. Однако он отрицал все. Он сказал,
что смутно помнит мою двоюродную бабушку, но что меня он отродясь не видел.
Сказал, что по алгебре у него вечно были плохие отметки, и уж во всяком
случае, отец никогда не показывал его пациентам; что в "Забаве" ("Liebelei")
он играл одну только роль -- отца Христины. Он повторил, что мы никогда
прежде не встречались. Наши недолгие пререкания были ничем иным, как
взаимным добродушным подтруниванием, все вокруг смеялись; впрочем я,
заметив, как неохотно он признается в своем прошлом, перешел к иным, менее
личным предметам.
девушка в черном шелковом свитере и с золотой лентой в каштановых волосах.
Она стояла передо мной, уперев правый локоть в ладонь левой руки, держа
сигарету, словно цыганка, между большим и указательным пальцами правой;
сигарета дымила, и девушка щурила яркие голубые глаза. Это была Лиза
Боголепова, студентка-медичка, писавшая к тому же стихи. Она спросила,
нельзя ли ей прислать стихи мне на суд. Несколько позже я увидел ее сидящей
рядом с отвратительно волосатым молодым композитором по имени Иван Нагой;
они пили "на брудершафт", а за несколько стульев от них доктор Баракан,
талантливый невропатолог и последний любовник Лизы, следил за ней с тихим
отчаянием в темных миндалевидных глазах.


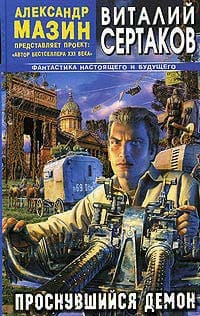

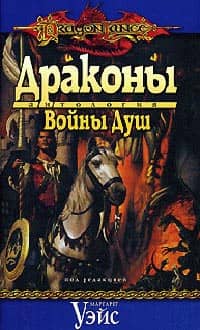

 Браун Дэн
Браун Дэн Шилова Юлия
Шилова Юлия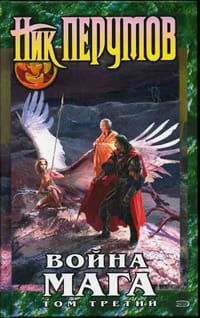 Перумов Ник
Перумов Ник Дальский Алекс
Дальский Алекс Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Пехов Алексей
Пехов Алексей