ему придется покинуть Вайнделл за два-три дня до публичной лекции, которую
мне предстояло прочесть во вторник пятнадцатого февраля. Места своего
назначения он не назвал.
четырнадцатого, пришел туда уже затемно. Меня встретили Кокереллы и
пригласили на поздний ужин к себе домой, и получилось, что я заночевал у них
-- вместо того, чтобы отоспаться в отеле, каково было первоначальное мое
намерение. Гвен Кокерелл оказалась очень хорошенькой женщиной сильно за
тридцать, с профилем котенка и с грациозными членами. Ее муж, с которым я
однажды уже встречался в Нью-Хейвене и которого запомнил как довольно
вялого, луноликого, невыразительного и белесого англичанина, приобрел с тех
пор безошибочное сходство с человеком, которого он передразнивал почти уже
десять лет. Я устал и не был особенно склонен развлекаться застольным
спектаклем, однако должен признать, что Джек Кокерелл изображал Пнина в
совершенстве. Его хватило чуть не на два часа, он показал мне все -- Пнина
на лекции, Пнина за едой, Пнина, строящего глазки студентке, Пнина,
излагающего эпопею с электрическим вентилятором, который он неосмотрительно
водрузил на стеклянную полку над ванной, в которую тот едва не слетел,
потрясенный собственными вибрациями; Пнина, пытающегося убедить профессора
Уинна, орнитолога, едва с ним знакомого, что они -- старые друзья, Том и
Тим, и Уинна, приходящего к заключению, что он имеет дело с кем-то,
изображающим профессора Пнина. Все это строилось, разумеется, на
жестикуляции и диком английском Пнина, впрочем, Кокерелл ухитрялся
передавать и такие тонкости, как различие между молчанием Пнина и молчанием
Тейера, когда они сидят, погрузившись в раздумья, в соседних креслах
преподавательского клуба. Мы получили Пнина в книгохранилище и Пнина на
озере в кампусе. Мы услышали, как Пнин порицает различные комнаты, которые
он поочередно снимал. Мы выслушали рассказ Пнина о том, как он учился водить
машину, а также о его действиях при первом проколе шины -- на пути с
"птицефермы какого-то Тайного Советника Царя", где, как полагал Кокерелл,
Пнин проводил летние отпуска. Мы добрались, наконец, до сделанного Пниным
заявления о том, что его "выстрелили" (shot), под чем, согласно имитатору,
бедняга разумел "выставили" (fired), -- я сомневаюсь, чтобы мой бедный друг
мог впасть в такую ошибку. Блестящий Кокерелл поведал нам также о странной
распре между Пниным и его соплеменником Комаровым -- посредственным
стенописцем, продолжавшим добавлять фресковые портреты преподавателей
колледжа к тем, что уже были когда-то написаны на стенах университетской
столовой великим Лангом. Хотя Комаров принадлежал к иному, нежели Пнин,
политическому течению, художник-патриот усмотрел в удалении Пнина
антирусский выпад и принялся соскребать хмурого Наполеона, стоявшего между
молодым, полнотелым (ныне костлявым) Блоренджем и молодым, усатым (ныне
бритым) Гагеном, намереваясь вписать туда Пнина; была показана и сцена во
время ленча между Пниным и ректором Пуром: разгневанный, пузырящийся Пнин,
утративший всякий контроль над тем английским, каким он владел, тыкал
трясущимся пальцем в зачаточный очерк призрачного мужика на стене и вопил,
что будет судиться с колледжем, если его лицо появится над этой
косовороткой; здесь была и его аудитория -- непроницаемый Пур, объятый тьмой
своей слепоты, ожидающий, когда Пнин иссякнет, чтобы громко спросить: "А
этот иностранный господин тоже у нас работает?". О, имитация была бесподобно
смешной, и хоть Гвен Кокерелл, надо полагать, слышала программу множество
раз, она хохотала так громко, что старый пес Собакевич, коричневый кокер с
залитым слезами лицом, принялся ерзать и принюхиваться ко мне.
Представление, повторяю, было блестящим, но чрезмерно затянутым. К полуночи
веселье выдохлось; улыбка, которую я держал на плаву, приобретала,
чувствовал я, признаки губной спазмы. В конце концов, все выродилось в такую
скуку, что я уже начал гадать, не стало ль для Кокерелла его занятие Пниным
-- в силу некоего поэтического возмездия -- своего рода роковым
помешательством, замещающим исходное посмешище собственной жертвой.
принял одно из тех внезапных решений, которые -- в определенном градусе
опьянения -- кажутся столь осмысленными и смешными. Он объявил о своей
уверенности в том, что старая лиса Пнин никуда вчера не уехал, а забился
поглубже в нору. Так отчего бы не позвонить и не проверить? Он и позвонил, и
хоть ответа на вереницу настойчивых нот, изображающих действительный звон в
воображаемой далекой прихожей, не последовало, представлялось разумным, что
этот совершенно нормальный телефон, уж верно, отключили бы, если бы Пнин и
вправду освободил дом. Я по-дурацки рвался сказать что-то дружеское моему
доброму Тимофей Палычу, так что, спустя несколько времени, тоже попробовал
дозвониться. Внезапно раздался щелчок, открылась звуковая перспектива,
отзвук тяжелого дыхания, и неумело искаженный голос сказал: "He is not at
home, he has gone, he has quite gone" ("Его нет дома, он ушел, он совсем
ушел"), -- и трубку повесили; однако, это не спасло моего старого друга, ибо
и лучший его подражатель не смог бы столь подчеркнуто срифмовать "at" с
немецким "hat", "home" с французским "homme" и "gone" с началом "Гонерильи".
Кокерелл предложил подъехать к дому 999 по Тодд-роуд и спеть окопавшемуся
там Пнину серенаду, но тут уж вмешалась миссис Кокерелл, и после вечера,
почему-то оставившего в моей душе подобие дрянного привкуса во рту, мы
отправились спать.
7
спальне, где ни окно, ни дверь толком не закрывались, а полное собрание
сочинений о Шерлоке Хольмсе, которое годами гоняется за мной, подпирало
лампу у изголовья, до того слабую и изнуренную, что даже гранки, взятые мной
для просмотра, не смогли подсластить бессонницу. Громыхание грузовиков
сотрясало дом каждые две минуты; я задремывал и подскакивал, задыхаясь, и
какой-то свет, проникавший с улицы сквозь пародийную штору, добирался до
зеркала и ослеплял меня мыслью, что я стою перед расстрельной командой.
невзгодам дня, мне совершенно необходимо проглотить сок трех апельсинов.
Поэтому в половине восьмого я наскоро принял душ и через пять минут вышел из
дома в обществе длинноухого и подавленного Собакевича.
видна была пустая дорога, взбегающая между снежных заплат на сизый холм.
Высокий безлистый тополь, бурый, словно метла, поднимался от меня по правую
руку, долгая утренняя его тень тянулась на противную сторону улицы и падала
там на зубчатый кремовый дом, который, по уверениям Кокерелла, мой
предшественник, увидев входящих туда людей в фесках, счел за турецкое
консульство. Я свернул налево, на север, и прошел пару кварталов вниз по
холму -- к ресторану, примеченному мною накануне; однако заведение еще не
открылось, и я повернул назад. Едва я сделал пару шагов, как груженный пивом
большой грузовик, загрохотал вверх по улице; сразу за ним тянулся
бледно-синий "Седан", из которого выглядывала белая собачья головенка;
следом катил второй грузовик, точь в точь такой, как первый. Смиренный
"Седан" был забит узлами и сумками; и Пнин сидел за рулем. Я испустил
приветственный рев, но он не заметил меня, и я надеялся только, что сумею
взбежать по холму достаточно быстро и настигну его, когда в квартале отсюда
красный свет преградит ему путь.
моего старого друга, одетого в шапку с ушами и теплый с меховым воротом
плащ; но в следующий миг свет позеленел, белая собачонка, высунувшись,
облаяла Собакевича, и все устремилось вперед -- первый грузовик, Пнин,
второй грузовик. Оттуда, где я стоял, я следил, как они уменьшаются в рамке
дороги, между мавританским домом и итальянским тополем. Крошка-"Седан"
храбро обогнул передний грузовик и, наконец-то свободный, рванул по сияющей
дороге, сужавшейся в едва различимую золотистую нить в мягком тумане, где
холм за холмом творят прекрасную даль, и где просто трудно сказать, какое
чудо еще может случиться.
в кухню, к английскому завтраку из унылых почек и рыбы.
Кремоне на сцену Дамского клуба, обнаружил, что привез не ту лекцию.
Примечания
дни", "кто есть кто" (англ.).
"маргинальное употребление" (англ.).



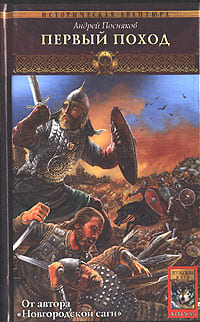
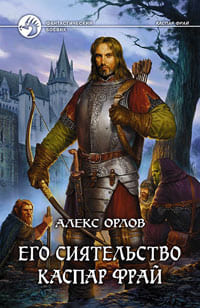

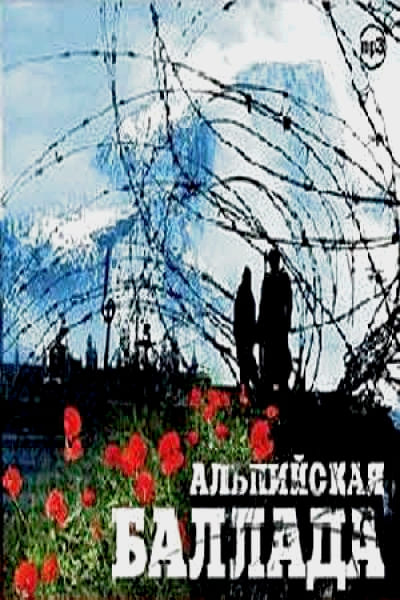 Быков Василий
Быков Василий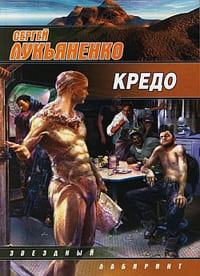 Лукьяненко Сергей
Лукьяненко Сергей Буркатовский Сергей
Буркатовский Сергей Каменистый Артем
Каменистый Артем Мацумото Сэйте
Мацумото Сэйте Самойлова Елена
Самойлова Елена