изображают их мысли. Ну вот мы и добрались до самой шутки. Матрос воображает
русалку с парой ножек, а киске она видится законченной рыбой.
стихотворениях сказал о русалках все, что о них можно сказать. Я не способен
понять американский юмор, даже когда я счастлив, а должен признаться... --
Трясущимися руками он снял очки, локтем отодвинул журнал и, уткнувшись в
предплечье лбом, разразился сдавленными рыданиями.
спустя, Лоренс с игривой опаской сунулся в кухню. Правой рукой Джоан
отослала его, левой показав на лежавший поверх пакетов радужный конверт. Во
вспыхнувшей мельком улыбке, содержался конспект письма; Лоренс сграбастал
письмо и, уже без игривости, на цыпочках вышел из кухни.
и с минуту разглядывала обложку: яркие, как игрушки, школьники-малыши,
Изабель и ребенок Гагенов, деревья, отбрасывающие еще бесполезную тень,
белый шпиль, вайнделлские колокола.
кулаком.
Ай хаф нафинг лефт, нафинг, нафинг!1
* Глава третья *
1
жилища -- по тем или иным причинам (главным образом, акустического
характера) -- едва ли не каждый семестр. Скопление последовательных комнат у
него в памяти напоминало теперь те составленные для показа кучки кресел,
кроватей и ламп, и уютные уголки у камина, которые, не обинуясь
пространственно-временными различиями, соединяются в мягком свете мебельного
магазина, а снаружи падает снег, густеют сумерки, и в сущности, никто никого
не любит. Комнаты его вайнделлского периода выглядели весьма опрятными в
сравнении с той, что была у него в жилой части Нью-Йорка -- как раз
посередине между "Tsentral Park" и "Reeverside", -- этот квартал запомнился
бумажным мусором на панели, яркой кучкой собачьего кала, на которой кто-то
уже поскользнулся, и неутомимым мальчишкой, лупившим мячом по ступенькам
бурого облезлого крыльца; но даже и эта комната становилась в сознании Пнина
(где еще отстукивал мяч) положительно щегольской, когда он сравнивал ее со
старыми, ныне занесенными пылью жилищами его долгой средне-европейской поры,
поры нансеновского паспорта.
обстановки ему уже было мало. Вайнделл -- городок тихий, а Вайнделлвилль,
лежащий в прогале холмов, -- тишайший, но для Пнина ничто не было достаточно
тихим. Существовала -- в начале его тутошней жизни -- одна "студия" в
продуманно меблированном Общежитии холостых преподавателей, очень хорошее
было место, если не считать некоторых издержек общительности ("Пинг-понг,
Пнин?" -- "Я больше не играю в детские игры"), пока не явились рабочие и не
взялись дырявить мостовую, -- улица Черепной Коробки, Пнинград, -- и снова
ее заделывать, и это тянулось чередованием тряских черных зигзагов и
оглушительных пауз -- неделями, и казалось невероятным, что они смогут
когда-нибудь отыскать тот бесценный инструмент, который ошибкой захоронили.
Была еще (это если выбирать там и сям лишь самые выдающиеся неудачи) другая
комната в имевшем замечательно непроницаемый вид доме, называвшемся
"Павильоном Герцога", в Вайнделлвилле: прелестный kabinet, над которым
однако каждый вечер под рев туалетных водопадов и буханье дверей угрюмо
топотали примитивными каменными ногами два чудовищных изваяния, -- в коих
невозможно было признать обладавших худосочным сложением настоящих его
верхних соседей, ими оказались Старры с Отделения изящных искусств ("Я
Кристофер, а это -- Луиза"), ангельски кроткая и живо интересующаяся
Достоевским и Шостаковичем чета. Также была -- уже в других меблированных
комнатах -- совсем уж уютная спальня-кабинет, в которую никто не лез за
даровым уроком русского языка, однако едва лишь грозная вайнделлская зима
начала проникать в этот уют посредством мелких, но язвительных сквознячков,
дувших не только от окна, а даже из шкапа и штепселей в плинтусах, комната
обнаружила нечто вроде склонности к умопомешательству, загадочную манию, --
а именно, в серебристом радиаторе завелась у Пнина упорно бормочущая, более
или менее классическая музыка. Он пытался заглушить ее одеялом, словно
певчую птицу в клетке, но пение продолжалось до той поры, пока дряхлая
матушка миссис Тейер не перебралась в больницу, где и скончалась, после чего
радиатор перешел на канадский французский.
хоть и отличались один от другого во множестве смыслов (не все, например,
были обшиты досками, некоторые были оштукатурены, по крайней мере --
частично), все же обладали одной общей родовой чертой: в книжных шкапах,
стоявших в гостиной или на лестничных площадках, неизменно присутствовали
Хендрик Виллем ван Лун и доктор Кронин; их могла разделять стайка журналов
или какой-то лощеный и полнотелый исторический роман, или даже очередное
перевоплощение миссис Гарнетт (и уж в таком доме, будьте уверены, где-нибудь
непременно свисала со стены афиша Тулуз-Лотрека), но эта парочка
обнаруживалась непременно и обменивалась взорами нежного узнавания,
наподобие двух старых друзей на людной вечеринке.
2
сверлильщики тротуара, да кроме них подоспели и новые неудобства. Сейчас
Пнин все еще снимал розовостенную в белых оборках спальню на втором этаже
дома Клементсов, это был первый дом, который ему по-настоящему нравился, и
первая комната, в которой он прожил более года. К нынешнему времени он
окончательно выполол все следы ее прежней жилицы, во всяком случае, так он
полагал, ибо не заметил и, видимо, не заметит уже никогда веселую рожицу,
нарисованную на стене как раз за изголовьем кровати, да несколько
полустершихся карандашных отметок на дверном косяке, первая из которых -- на
высоте в четыре фута -- появилась в 1940 году.
улетела в западный штат навестить замужнюю дочь, а два дня спустя, -- едва
начав весенний курс философии, -- улетел на Запад и профессор Клементс,
вызванный телеграммой.
молоко, по-прежнему поступавшее в дом, и в половине девятого был готов к
ежедневному походу в кампус.
которого Пнин попадает внутрь своего пальто: склоненная голова обнаруживает
ее совершенную голизну, подбородок, длинный, как у Герцогини из Страны
Чудес, крепко прижимает перекрещенные концы зеленого шарфа, удерживая их на
груди в требуемом положении, а Пнин тем временем, вскидывая широкие плечи,
исхитряется попасть руками в обе проймы сразу, еще рывок, -- и пальто
надето.
вспомнил о книге, которую библиотека колледжа настоятельно просила вернуть,
чтобы ею мог воспользоваться другой читатель. Минуту он боролся с собой,
книга была еще нужна ему, однако слишком сильное сочувствие испытывал добрый
Пнин к пылкому призыву иного (неведомого ему) ученого, чтобы не вернуться за
толстым и увесистым томом: то был том 18-й, -- посвященный преимущественно
Толстому, -- "Советского Золотого Фонда Литературы", Москва-Ленинград, 1940.
3
гортань, небо, губы, язык (пульчинелла этой труппы) и последнее (по порядку,
но не по значению) -- нижняя челюсть; на ее-то сверхэнергические и отчасти
жевательные движения и полагался главным образом Пнин, переводя на занятиях
куски из русской грамматики или какое-нибудь стихотворение Пушкина. Если его
русский язык был музыкой, то английский -- убийством. Особые затруднения
("дзи-ифи-икультси-и" на пниновском английском) были у него связаны со
смягчением звуков, ему никак не удавалось устранить дополнительную русскую
смазку из t и d, стоящих перед гласными, которые он столь причудливо
умягчал. Его взрывное "hat" ("I never go in hat even in winter")1 отличалось
от общеамериканского выговора "hot" (типичного, скажем, для обитателей
Вайнделла) лишь большей краткостью и оттого более походило на немецкий
глагол "hat" (имеет). Долгие "o" у него неукоснительно становились
короткими: "no"2 звучало просто по-итальянски, что усиливалось его манерой
утраивать это простое отрицание ("May I give you a lift, Mr Pnin?" --
"No-no-no, I have only two paces from here"1). Он не умел (и не догадывался




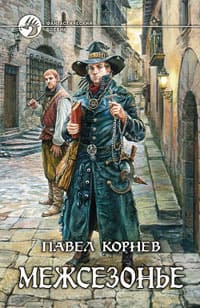
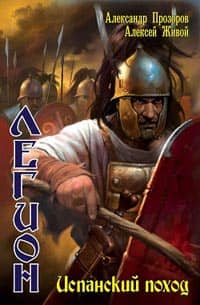
 Корнев Павел
Корнев Павел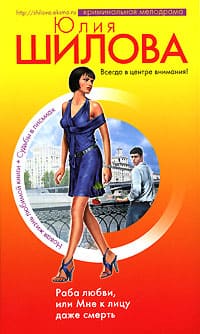 Шилова Юлия
Шилова Юлия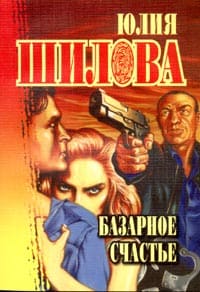 Шилова Юлия
Шилова Юлия Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк Максимов Альберт
Максимов Альберт