его во время утреннего туалета, я уверен, что поймал его, что
прорвалась его непроницаемость.
Вытираясь, он вышел из своей комнаты к порогу балахона и,
ковыряя полотенцем в ушах, повернулся ко мне спиной. Я увидел
эту спину, этот тучный торс сзади, в солнечном свете, и чуть не
вскрикнул. Спина выдала все. Нежно желтело масло его тела.
Свиток чужой судьбы развернулся передо мною. Прадед Бабичев
холил свою кожу, мягко расположились по туловищу прадеда валики
жира. По наследству передались комиссару тонкость кожи,
благородный цвет и чистая пигментация. И самым фуавным, что
вызвало во мне торжество, было то, что на Пояснице его я увидел
родинку, особенную, наследственную дворянскую родинку,- ту
самую, полную крови, просвечивающую, нежную штучку, отстающую
от тела на стебельке, по которой матери через десятки лет
узнают украденных детей.
"Вы - барин, Андрей Петрович! Вы притворяетесь! " - едва не
сорвалось с моих уст.
Но он повернулся грудью.
На груди у него, под правой ключицей, был шрам. Круглый,
несколько топорщащийся, как оттиск монеты на воске. Как будто
в этом месте росла ветвь и ее отрубили. Бабичев был на
каторге. Он убегал, в него стреляли.
- Кто такая Иокаста? - спросил он меня однажды ни с того ни с
сего. Из него выскакивают (особенно по вечерам) необычайные по
неожиданности вопросы. Весь день он занят. Но глаза его
скользят по афишам, по витринам, но края ушей улавливают слова
из чужих разговоров. В него попадает сырье. Я единственный
его неделовой собеседник. Он ощущает необходимость завязать
разговор. На серьезный разговор он считает меня неспособным.
Ему известно, что люди, отдыхая, болтают. Он решает отдать
какую-то дань общечеловеческим обыкновениям. Тогда он задает
мне праздные вопросы. Я отвечаю на них. Я дурак при нем. Он
думает, что я дурак.
- Вы любите маслины? - спрашивает он.
"Да, я знаю, кто такая Иокаста! Да, я люблю маслины, но я не
хочу отвечать на дурацкие вопросы. Я не считаю себя глупее
вас", Так бы следовало ответить ему. Но у меня не хватает
смелости. Он давит меня.
Я живу под его кровом две недели. Две недели тому назад он
подобрал меня, пьяного, ночью у порога пивной... Из пивной
меня выкинули.
Ссора в пивной завязалась исподволь; сперва ничто и не
предвещало скандала - напротив, могла завязаться между двумя
столиками дружба; пьяные общительны; та большая компания, где
сидела женщина, предлагала мне присоединиться, и я готов был
принять приглашение, но женщина, которая была прелестна, худа,
в синей шелковой блузке, болтающейся на ключицах, отпустила
шуточку по моему адресу - и я оскорбился и с полдороги вернулся
к своему столику, неся впереди кружку, как фонарь.
Тогда целый град шуток посыпался мне вслед. Я и в самом деле
мог показаться смешным; этакий вихрастый фрукт. Мужчина
вдогонку гоготал басом. Швырнули горошиной. Я обошел свой
столик и стал лицом к ним,- пиво ляпало на мрамор, я не мог
высвободить большого пальца, запутавшегося в ручке кружки,-
хмельной, я разразился признаниями: самоуничижение и
заносчивость слились в одном горьком потоке:
- Вы... труппа чудовищ... бродячая труппа уродов, похитившая
девушку... (Окружающие прислушались: вихрастый фрукт
выражался странно, речь его вышла из общего гомона.) Вы,
сидящие справа под пальмочкой, урод номер первый. Встаньте и
покажитесь всем... Обратите внимание, товарищи, почтеннейшая
публика... Тише! Оркестр, вальс! Мелодический нейтральный
вальс! Ваше лицо представляет собой упряжку. Щеки стянуты
морщинами,- и не морщины это, а вожжи; подбородок ваш - вол,
нос - возница, больной проказой, а остальное - поклажа на
возу... Садитесь. Дальше: чудовище номер второй... Человек
со щеками, похожими на колени. Очень красиво! Любуйтесь,
граждане, труппа уродов проездом... А вы? Как вы вошли в эту
дверь? Вы не запутались ушами? А вы, прильнувший к
украденной, спросите ее, что думает она о ваших угрях?
Товарищи... (я повернулся во все стороны) они... вот эти...
они смеялись надо мною! Вон тот смеялся... Знаешь ли как ты
смеялся? Ты издавал те звуки, какие издает пустой клистир...
Девушка... "в садах, украшенных весной царица, равной розы
нет, чтобы идти на вас войною, на ваши восемнадцать лет!.."
Девушка! Кричите! Зовите на помощь! Мы спасем вас. Что
случилось с миром? Он щупает вас, и вы ежитесь? Вам приятно?
(Я сделал паузу и затем торжественно сказал.) Я зову вас,
Сядьте здесь со мной. Почему вы смеялись надо мной? Я стою
перед вами, незнакомая девушка, и прошу: не теряйте меня.
Просто встаньте, оттолкните их и шагните сюда. Чего же вы
ждете от него, от них всех?.. Чего?.. Нежности? ума? ласк?
преданности? Идите ко мне. Мне смешно даже равняться с ними.
Вы получите от меня неизмеримо больше...
Я говорил, ужасаясь тому, что говорю. Я резко вспомнил те
особенные сны, в которых знаешь: это сон - и делаешь что
хочешь, зная, что проснешься. Но тут видно было. пробуждения
не последует. Бешено наматывался клубок непоправимости.
Меня выбросили.
Я лежал в беспамятстве. Потом, очнувшись, я сказал:
- Я зову их, и они не идут. Я зову эту сволочь, и они не
идут. (Ко всем женщинам разом относились мои слова.)
Я лежал над люком, лицом на решетке. В люке, воздух которого
втягивал я, была затхлость, роение затхлости; в черном клубе
люка что-то шевелилось, жил мусор. Я, падая, увидел на момент
люк, и воспоминание о нем управляло моим сном. Оно было
конденсацией тревоги и страха, пережитого в пивной, унижения и
боязни наказания; и во сне облеклось оно в фабулу
преследования, и убегал, спасался,- все силы мои напряглись, и
сон прервался.
Я открыл глаза, трепеща от радости избавления. Но
бодрствование было так неполно, что я воспринял его как переход
от одного видении к другому, и в новом видении главную роль
играл избавитель - тот, кто спас меня от преследования, тот
некто, кому осыпал я руки и рукава поцелуями, думая, что целую
во сне,- кого обнял я за шею, горько рыдая.
- Почему я так несчастен?.. Как трудно мне жить на свете! -
лепетал я.
- Положите его головой повыше,- сказал спаситель.
Меня везли в автомобиле. Приходя в себя, я видел небо,
бледное, светлеющее небо; оно неслось от пяток за голову.
Видение это гремело, было головокружительно и всякий раз
оканчивалось приступом тошноты. Когда я коснулся утром, в
страхе я протянул руку к ногам. Еще не разобравшись, где я,
что со мной, я вспомнил толчки и покачивания. Меня пронзила
мысль, что везли меня в карете Скорой помощи, что, пьяному, мне
отрезало ноги. Я протянул руки, уверенный, что нащупаю
толстую, бочоночную округлость бинтов. Но оказалось просто: я
лежу на диване в большой, чистой и светлой комнате, имеющей
балкон и два окна. Было раннее утро. Розовея, мирно
нагревался камень балкона.
Когда мы утром познакомились, я рассказал ему о себе.
- Жалкий был вид у вас,- сказал он,- очень вас стало жаль.
Вы, может быть, обижаетесь: вмешивается, мол, человек в чужую
жизнь? Тогда извините, пожалуйста. Но хотите вот: поживите
нормально. Очень буду рад. Места много. Свет и воздух. И





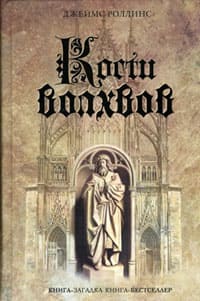
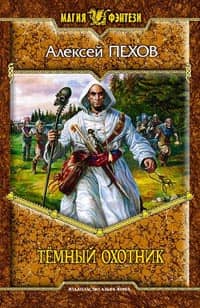 Пехов Алексей
Пехов Алексей Каменистый Артем
Каменистый Артем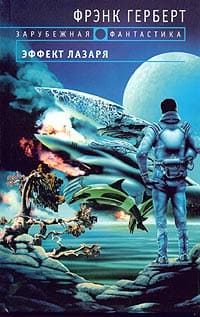 Херберт Фрэнк
Херберт Фрэнк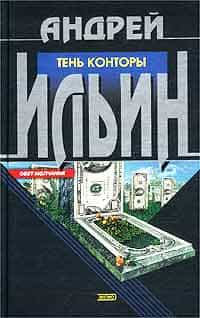 Ильин Андрей
Ильин Андрей Орлов Алекс
Орлов Алекс Самойлова Елена
Самойлова Елена