хрипящего начальника, то опять душил, а когда тот завалился, Санька,
отшатнувшись, бросился убегать...
но, добравшись к телефону, особист даже испугался, что собирался звонить, и
сам побежал в полк в надежде перехватить дезертира. Заспанные караульные, на
которых он в темноте наталкивался, хмуро узнавали особого начальника, не
замечая в его ночном рвении ничего подозрительного. В одном лишь месте
Скрипицына охватила тревога. Это когда он сунулся в грузовой парк, вспомнив,
что Санька частенько ночевал в гараже. Однако и тутошний караульный
безмолвствовал, вышагивая у ворот. Мысль, что Калодин успел-таки убежать из
полка, ободрила Скрипицына, и он вернулся в особый отдел, дожидаясь
сообщения из городской комендатуры о поимке дезертира, чтобы первым про это
узнать.
волоску лысела. Пожар начался с машины начальника особого отдела. Караульные
своими силами могли бы ее еще загасить, могли бы не дать огню пожрать другие
машины, но, подбежав с огнетушителями, они вдруг ясно увидали в огне
огромного человека, из которого, казалось, и исходил самый жар. Человек этот
что-то орал сквозь гул огня и держался горящими руками за горящую же
баранку, а вскорости скрылся в огне. Караульные испугались тушить эту машину
с огромным горящим человеком, который был точно оживший огонь, и только
глядели на это зарево, сделавшись жалкими и забитыми. Время было упущено, и
когда сбежался весь полк, то шеренга командирских машин была уже вся объята
огнем.
издалека, но все же успели заслонить казармы и отбить гараж. Сгорело только
то, что выстаивалось в парке, то есть под открытым небом, на подстилке из
каменных плит, и к утру грузовой парк походил на эдакий оскверненный
монумент.
доставили в полк автозаком, будто вора, потому что личную машину за ним уже
не могли послать. Возможно ли вообразить, что переживал он, когда трясся в
заке и никак не верил в пожар? Растрепанный, с красными слезящимися глазами,
полковник принялся отыскивать виноватых и ответственных. На плац спешно
сгоняли солдат и долго проводили перекличку, сверяясь со списками.
Обнаружилось, однако, что отсутствующих среди прапорщиков и солдат нету. Так
и выяснилось, что сгоревший не служил в полку, а пробрался со стороны.
Караульные показывали, что застали неизвестного еще живым и что этот
неизвестный не звал на помощь и не делал попыток вырваться из огня, а упрямо
в нем сидел.
глядя нагребли и мелких железок, гаек, пружин, потому что отделять их от
останков было трудно, в огне все сплавилось и смешалось, - и мешочек
позвякивал. Удивительно было, что обугленные два кулака неизвестного,
которыми он сжимал баранку, к ней же и приварились, отчего их пришлось
отколупливать. И получалось, что неизвестный пробрался в полк, может быть,
даже имея задание его поджечь. Быть может, эта диверсия была одной из
многих, которые готовились в Караганде. На то указывала его упрямая смерть,
когда неизвестный сжигал себя вместе с имуществом, как если бы он слепо
ненавидел советскую власть. Таковые мысли родились в голове у Федора
Федоровича Победова, и он хватился Скрипицына, потому как за диверсии в
полку и отвечал особый отдел. И когда полковнику доложили, что Скрипицын был
из тех, кто в одиночку осмеливался тушить и даже пострадал от ожогов,
Победов с досады даже выругался. Он было хотел уже спрятаться по обыкновению
в своем кабинете, осесть и отдышаться. Но его снова ухватили, поймав за
живот. Звонил сам начальник особого отдела дивизии - полковник с точно
известной фамилией Прокудышев и не совсем известным именем-отчеством: то ли
Сергей Николаевич, то ли Николай Сергеевич. Доставал дивизионный особист не
по пожарному делу, про пожар в дивизии знать не знали, а по докладу
провожавшего стройбатников дядьки, так что и выходило, что Победов
проштрафился дважды: и дезертира прошляпил, и теперь вот, опять с
опозданьем, принужден докладывать про погорельщину. Вконец раздавленный, он
пролепетал невразумительное: "Полагаю, диверсия". На диверсию, однако,
Прокудышев не отозвался, а огорошил Победова неожиданным: "Второй пожар? Да,
знаете ли, это неспроста. И Скрипицын ваш подозрителен. Доказать, конечно,
ничего не докажешь, и в тот раз, и в этот огонь все списал, все концы и
начала спалил, но вы уж его, Победов, покамест, до расследования, пока я
дознавателей сам не пришлю, от дел отстраните".
тому, как говорил с ним дивизионный особый, как пить дать следовало, что и
он, Федор Федорович, заинтересованное и даже сильно вляпавшееся лицо.
соображать, как все могло произойти. Он припомнил, что пожар и начался с
машины Скрипицына, потом припомнил, что Скрипицын оказался на пожаре, то
есть встречал рассвет отчего-то в полку. Он даже приказал в кадры, чтобы
доложили о рядовом Калодине, то есть сунул руку в самое пекло, но когда
получил от кадровиков разъяснение, сделал самый неуклюжий вывод, будто бежал
Калодин по наученью Скрипицына, как раз с тем умыслом, чтобы Победова
опозорить, то есть так и не догадавшись, как близок он был к тому, чтобы
весь случай сообразить. Но одно из многого неразгаданного Федор Федорович
все ж таки в толк взял: там, где имелся виноватый Скрипицын, там
образовывалась и обратная сторона, доказывающая, что он-то как раз и не
может быть виноватым. Машина ведь могла и случайно загореться, и даже глупо
было ее поджигать, выставляясь напоказ. Засиделся до рассвета, так это же и
хорошо, что заработался. Да и про солдата кадровик доложил, что Скрипицын
имел основания его тихо отчислить. Вот так шаг за шагом Федор Федорович и
дотопал до мысли, что Скрипицына возможно лишь услать в самую глушь, запечь
в такое гиблое место, откуда тот и не выбрался бы вовек. Подумывая, кому на
руку вредил Скрипицын, полковник заподозрил не иначе как Дегтяря, тот
слишком явно ему помогал. И полковник вызвал Дегтяря к себе, решив нагнать
на начштаба страху, чего без особого труда и добился. Затем он уже орал и
требовал Скрипицына, этого диверсанта. И когда тот явился, сутулый, понурый,
полковник разорялся еще пуще, как если бы не хотел, чтобы Скрипицын начал
оправдываться. Но Скрипицын и не пытался отвечать, он покорно молчал. Он
молчал и молчал все невозмутимей, и даже когда полковник под конец
прокричал: "Собирай манатки, завтра же пошагаешь служить в степи, говнюк!" -
опять не ответил.
пораньше сделал Скрипицыну звонок: "Ты еще не убрался, чего, конвой
присылать?" - "Боитесь, Федор Федорович, думаете, убегу?" - "Ты еще
подковыриваешь меня, командира полка?! Ишь, долго я тебя терпел, долго...
Знаешь, куда отправляю? В Балхаш, будешь медь жевать". - "А если, для
честности, я всю правду расскажу, которую Смершевич не рассказал?" - "И это
ты за все мое добро! Пупок развяжется, обосрешься, диверсант... Нет, под
трибунал, под трибунал!" - "Да никакого трибунала не будет, чего шуметь,
Федор Федорович".
этот хрыч повесился бы на своем галстуке, если бы узнал или смог понять всю
правду. И Скрипицыну даже подумалось, а не сказать ли им всем про Саньку-то,
хоть поглядит, как их рожи скуксятся. Так ведь не поверят! Не захотят
поверить.
его так долго, что как бы забылся и думал уже о другом и даже вздрогнул,
когда в особый отдел ворвались вдруг разгоряченные люди, волоча то ли
человека, то ли чучело: "Принимай, он командира полка хотел застрелить!"
себя, Скрипицын расхаживал по своему уже бесхозному кабинету. И хотя именно
с этого дурака и начала испепеляться всякая его будущность, кривобокий
прапорщик глядел на Хабарова с пустотой в глазах. Если что Скрипицына и
озадачило напоследок, так это известие, что капитан покушался на жизнь
командира полка. Так ли был напуган Федор Федорович, чтобы вообразить, будто
нагрянувший Хабаров и впрямь намерился его пристрелить? Или Хабаров до того
разуверился в полковнике, что и без дураков угрожал? Но хабаровский пистолет
хранился у Скрипицына в сейфе, не было пистолета, с чего же такие страсти?
Почуяв возможность какого-то хода, и самому покамест неясного, особист
приосвежился и почти вслепую начал с побитым капитаном разговор: "Что,
хлебом-солью угостил отец родимый, Победов-то? А ты терпи..." - "Суки вы..."
- простонал Хабаров, ничего не желая понимать. "Ругайся, ругайся - значит,
живой! Только нам с тобой делить нечего, я еще в Карабасе хотел тебе помочь.
Ну чего кривишься, я ведь тоже одной ногой в могиле стою, которую мне
Победов вырыл". - "Убил бы..." - произнес капитан, и Скрипицын вдруг
вздрогнул, махнул притащившему Хабарова солдату, чтобы тот уходил, и сам
принялся за капитана. "Рано сдаваться, двое честных людей - это уже сила.
Хорошо, что ты понял, кто друг, а кто враг. Победову человеком хрустнуть -
как веткой, столько жизней покорежил, что страшно сказать, вот еще твоя и
моя. Я по шажку к нему подбирался, доказательства собирал, мешал как мог. Но
ты же мне показаний не давал, ничего другого не оставалось". Хабаров,
потрясенный этим известием, поднял голову, побитую офицерскими сапогами, и
поразил кривобокого прапорщика тем, что из опухших щелей его покатились
чистые блестящие слезы. "Да что же ты сразу не сказал, я бы не продал
тебя..." - "Поздно..." - нашелся Скрипицын. Отводя глаза, он протянул
пистолет капитану: "Держи, твой... Уходи, пока не поздно, отступай". - "Ты
прости меня", - проговорил Хабаров, принимая пистолет и не зная, куда его
подевать, утерянный и найденный.
пистолет в карман шинели и не вынимая из кармана руки, будто отогревал. "Ты
это, сбереги картошку сколько сможешь, сбереги". Так они и расстались.






 Орловский Гай Юлий
Орловский Гай Юлий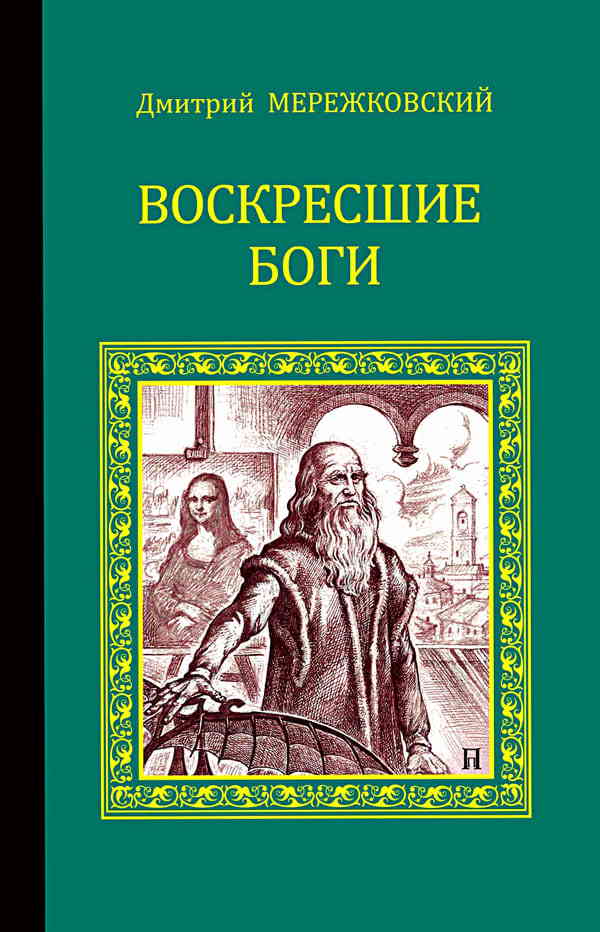 Мережковский Дмитрий
Мережковский Дмитрий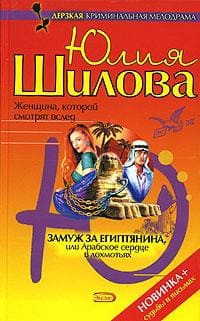 Шилова Юлия
Шилова Юлия Володихин Дмитрий
Володихин Дмитрий Прозоров Александр
Прозоров Александр Флинт Эрик
Флинт Эрик