найдутся люди, которые сумеют лучше, чем он, удовлетворять ее
прихоти.
угадав его мысли. ля меня это и слишком рано и слишком поздно,
-- подумала она.
что она сказала, будто платьев три, в порядке вещей.
-- Все счета я отправила ему. Он не знает только одного: этих
платьев мне хватит на всю жизнь. А теперь давай отправимся в
самый что ни на есть шикарный ночной ресторан. Я согласна с
тобой. У платьев тоже есть свои права.
часа утра.
она.
хором.
еще переживали послевоенный угар. Пестрые логова кабаре и
ночных ресторанов были окутаны дымом. Казалось, они находятся
под водой. Все, что здесь происходило, было бесконечным
повторением одного и того же. Без Лилиан Клерфэ отчаянно скучал
бы. Но для нее все это было ново, она видела не то, что есть на
самом деле, и не то, что видели другие, а то, что хотела
увидеть. В ее глазах подозрительные кабаки превращались в
огненный вихрь, а оркестры, гонявшиеся за чаевыми, -- в
сказочные капеллы. Залы, битком набитые наемными танцорами,
нуворишами, вульгарными и глупыми бабами -- всеми теми, кто не
шел домой потому, что не знал, как убить время, или же потому,
что рассчитывал на легкое приключение или на какую-нибудь
сделку, становились в ее глазах искрящимся водоворотом; ведь
она так хотела, ведь она пришла сюда ради этого.
Клерфэ. -- Все они стремятся либо к приключениям, либо к
бизнесу, либо к тому, чтобы заполнить шумом джазов пустоту в
себе. Она же гонится за жизнью, только за жизнью, она как
безумная охотится за ней, словно жизнь -- это белый олень или
сказочный единорог. Она так отдается погоне, что ее азарт
заражает других. Она не знает ни удержу, ни оглядки. С ней
чувствуешь себя то старым и потрепанным, то совершеннейшим
ребенком. И тогда из глубин забытых лет вдруг выплывают чьи-то
лица, воскресают былые мечты и тени старых грез, а потом
внезапно, подобно вспышке молнии в сумерках, появляется давно
забытое ощущение неповторимости жизни.
стола, угодливо согнувшись, и пели. Лилиан была захвачена их
пением. се в их песнях кажется ей настоящим, -- думал Клерфэ.
-- Перед нею степь, она слышит одинокий стон в ночи, ощущает
одиночество и видит первый костер, у которого человек искал
защиты; даже самую избитую, затасканную и сентиментальную песню
она воспринимает как гимн человечности, в каждой такой песне ей
слышатся и скорбь, и желание удержать неудержимое, и
невозможность этого. Лидия Морелли по-своему права -- все это
можно назвать провинциальным, но будь я проклят, если как раз
из-за этого не следует молиться на Лилиан.
своего .
символом самой жизни, а любая банальная фраза звучит для нее
так же чарующе и умно, как она, наверное, звучала, когда ее
произнесли впервые. Это просто невыносимо. Она знает, что
должна умереть, и свыклась с этой мыслью, как люди свыкаются с
морфием, эта мысль преображает для нее весь мир, она не знает
страха, ее не пугают ни пошлость, ни кощунство. Почему же я,
черт возы ми, ощущаю что-то вроде ужаса, вместо того чтобы, не
задумываясь, ринуться в водоворот?
Боготворить можно только издали.
это необходимо, как вода и вино.
пойдем?
в это время мне звонит какая-то женщина. Эта женщина говорит,
чтобы я убиралась отсюда, потому что здесь мне не место. И
многое другое в том же духе.
ней?
она заявила ему, что она моя мать. Она говорит с акцентом. Эта
женщина не француженка.
услышит, где я живу.
огромный сундук (его оставил в отеле какой-то удравший немецкий
майор) и уложил туда новые платья Лилиан. Лилиан в это время
сидела на кровати и смеялась.
здесь очень полюбила. Но я люблю, ни о чем не жалея. Ты
понимаешь?
ноги. В руке она держала рюмку вина.
я могу уйти отовсюду.
легкостью, с какой люди меняют гостиницы.
панике он, видимо, совсем забыл о ней. Для немецкого офицера
это весьма предосудительный поступок. Я оставлю шпагу в
сундуке. А знаешь, ты ведь пьяна, но тебе это очень идет. К
счастью, я уже два дня назад заказал для тебя номер в ице. А то
нам было бы довольно трудно пройти мимо портье.
имени?
шпагу?
спросила Лилиан.




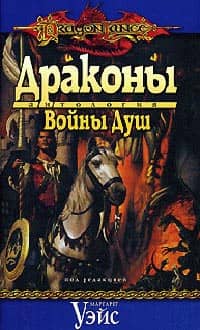

 Эриксон Стивен
Эриксон Стивен Сертаков Виталий
Сертаков Виталий Грабб Джеф
Грабб Джеф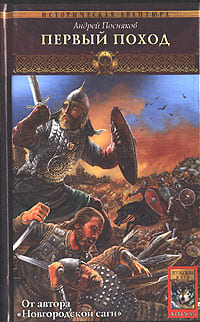 Посняков Андрей
Посняков Андрей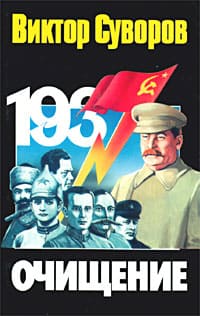 Суворов Виктор
Суворов Виктор Свержин Владимир
Свержин Владимир