на которых целуются влюбленные. Час воров-карманников, насильников и убийц
наступает позже, когда совсем стемнеет. Тогда же появляются и бандиты.
где спрятаться. А жаль. Хорошо, если бы летом все было по-другому. Но сейчас
бояться нечего, мы ведь не одни.
думал я, ощущая ее близость. Темнота не таила в себе опасности; она защищала
нас, сохраняя скрытые в ней тайны. Я чувствовал обволакивающую нежность, у
которой еще не было имени, - она ни к кому конкретно не относилась и
свободно парила, как ветерок поздним летним вечером, и тем не менее уже была
сладостным обманом. Она не была безоблачной, а слагалась из страха и
опасения, что прошлое нагрянет вновь, из трусости и желания выстоять в этот
таинственный и опасный промежуточный период беспомощности, втиснувшийся
где-то между бегством и спасением; она, как слепец, хваталась за все, что
пред[162] ставлялось ей надежной опорой. Мне было стыдно, но я легкомысленно
убеждал себя в том, что и Наташа не лучше меня, что и она словно лиана
цепляется за ближайшее дерево, не терзая себя вопросами и угрызениями
совести.
теплившаяся нежность витала вокруг нее и казалась такой безопасной, потому
что у нее еще не было имени и ее еще не успела закогтить боль.
у меня, когда мы проходили под освещенной желтыми фонарями аркой, которая
вела к Пятой авеню. Перед нами маячила широкая тень шофера. - Я не знаю
тебя, но я обожаю тебя, Наташа, - повторил я, поймав себя на том, что
впервые обратился к ней на "ты". Она повернулась ко мне.
слова и приятно слышать.
видел сон. Лишь постепенно я снова стал различать темные контуры своей
комнаты, более светлые очертания окна и красноватый отблеск нью-йоркской
ночи. Но это было тягучее, медленное пробуждение, будто мне приходилось
выбираться из трясины, где я чуть не задохнулся.
сон, и каждый раз мне требовалось много времени, чтобы прийти в себя. Мне
снилось, что я кого-то убил и закопал в заросшем саду у ручья; что по
прошествии долгого времени труп нашли, это навлекло на меня большие
несчастья, и я был схвачен. Я никогда толком не знал, кого же я убил -
мужчину или женщину. Не знал также, почему я это сделал, и, кроме того, мне
казалось, будто я уже забыл во сне, что я совершил. Тем ужаснее был для меня
страх и глубокое замешательство, еще долго преследовавшие .меня после
пробуждения, будто сон все-таки был явью. [163]
вокруг себя. Побеленное известью помещение в крематории с крюками, на
которых подвешивали людей, и пятнами под ними, оставленными головами,
дергавшимися от ударов и обивавшими известку, снова явилось мне в эту душную
ночь; потом я увидел скелетообразную руку на полу, которая еще шевелилась, и
услышал жирный голос, который повелевал: "Наступи на нее! Грязная тварь,
растопчешь ты ее, наконец, или нет? Быстрее, или я тебя уничтожу! Мы и тебя,
свинья, подвесим, но не торопясь, с наслаждением!"
в сотый раз повторил себе, что он уничтожит меня, как назойливую муху, как
десятки других узников, просто удовольствия ради, если я не выполню его
приказа. Он только и ждал, что я откажусь. И все же я чувствовал, как пот
ручьями лил у меня из-под мышек, и я стонал, беспомощный и мучимый тошнотой.
Этот жирный голос и эти садистские глаза должны быть уничтожены. Мэрц, думал
я. Эгон Мэрц. Потом он меня выпустил при очередном послаблении режима,
потому что я не был евреем, и тогда я бежал. До границы с Голландией было
рукой подать - я хорошо знал эти места и воспользовался оказанной помощью, -
но и тогда уже понимал, что это лицо садиста еще не раз возникнет передо
мною прежде, чем я умру.
Сидел и размышлял обо всем, что хотелось похоронить и спрятать глубоко под
землей, и снова о том, что это невозможно и что мне надо вернуться назад,
пока я не подох раньше срока от ужаса и отчаяния, как это случилось с
Моллером. Я должен остаться в живых и спастись - спастись во что бы то ни
стало. Я сознавал, что ночью все кажется более драматичным, умножаются
ценности, меняются понятия, и тем не менее я продолжал сидеть, ощущая
распростертые надо мной крылья грусти, бессильной ярости и скорби. Я сидел
на кровати, ночная мгла рассеива[164] лась, и я разговаривал сам с собой,
как с ребенком, я ждал дня, а когда он наступил, я был совершенно разбит,
будто всю ночь бросался с ножом на бесконечную черную ватную стену и никак
не мог ее повредить.
Дега. Мне было ведено доставить ему картину и помочь ее повесить. Купер жил
на четвертом этаже дома на Парк-авеню. Я думал, что дверь откроет прислуга,
но навстречу мне вышел сам Купер. Он был без пиджака.
зелено-голубой дамы. Хотите виски? Или лучше кофе?
как в склепе. Голова Купера напоминала созревший помидор. Это впечатление
еще более оттеняла изысканная французская мебель в стиле Людовика XV, а
также маленькие итальянские кресла и небольшой роскошный желтый комод
венецианской работы. На обитых штофом стенах висели картины французских
импрессионистов.
Силверс утверждал, будто подарил ее жене и та устроит скандал, если,
вернувшись домой, вдруг не обнаружит ее. Какой блеф!
сколько Силверс содрал с меня за это полотно?
мне проверку. [165]
безденежья меня отделяют тридцать пять долларов.
Купер.
что увлечение искусством довольно прибыльное дело. Выгодней и не придумаешь.
Мне кажется, Силверс охотно купил бы некоторые ваши картины и при этом не
прогадал бы.
пятьдесят процентов дороже!
подходящее местечко.
знал толк в этом деле, либо имел прекрасных советчиков, а может, и то и
другое вместе. Я послушно шел за горничной.
место.
лесной пейзаж с трубящим оленем, несколькими косулями и ручьем на переднем
плане.
наследство от родителей? [166]
Совсем как в жизни!
Купер охотник?
навернулись на глаза от умиления:
притворяться. Тут было то, что ему действительно нравилось. Все прочее было
показухой, бизнесом, возможно, даже увлечением - кто мог это знать, да и
кому это было интересно? Но трубящий олень - это уже была страсть, а от


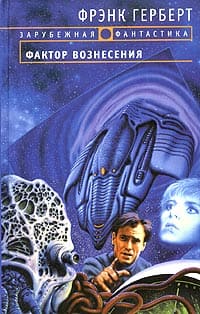

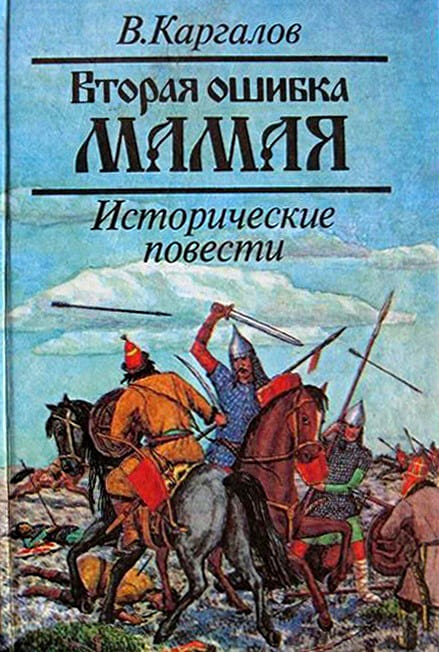

 Шилова Юлия
Шилова Юлия Никитин Юрий
Никитин Юрий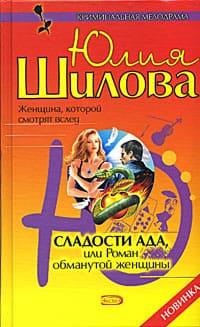 Шилова Юлия
Шилова Юлия Шилова Юлия
Шилова Юлия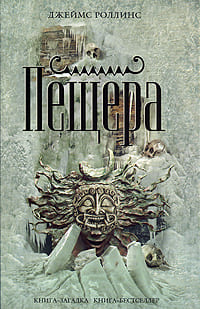 Роллинс Джеймс
Роллинс Джеймс Лукин Евгений
Лукин Евгений