дела.
тюрьмы. Слишком хорошо все это изучил.
позволят.
начали понемногу возвращаться в гостиницу, и Меликову приходилось то
выдавать ключ, то разносить по номерам бутылки и сигареты.
Меликову, что хочу снять отдельный номер. Почему - я и сам не знал. Мы друг
другу не мешали, и Меликову было безразлично, живем мы вместе или нет. Но
для меня вдруг стало очень важно попробовать спать в одиночестве. На
Эллис-Айленде мы все спали вповалку в большом зале; во французском лагере
для интернированных было то же самое. Конечно, я знал, что стоит мне
очутиться одному в ком[23] нате, и я начну вспоминать времена, которые
предпочел бы забыть. Ничего не поделаешь! Не мог же я вечно избегать
воспоминаний.
окрасили антикварные лавки на правой стороне улицы в сказочный
золотисто-желтый цвет, а витрины на противоположной стороне затянуло
предвечерней паутиной. В это время дня стекла начинали жить самостоятельной
жизнью - отраженной жизнью, вбирая в себя чужой свет; примерно такую же
обманчивую жизнь обретают намалеванные часы над магазинами оптики, когда
время, которое показывают рисованные стрелки, совпадает с действительным. Я
открыл дверь лавки; из помещения, похожего на аквариум, вышел один из
братьев Лоу - рыжий. Он поморгал немного, чихнул, посмотрел на мягкий закат,
еще раз чихнул и заметил меня. А я той порой наблюдал за тем, как
антикварная лавка постепенно превращалась в пещеру Аладина.
мгновение, когда засверкали зеркала. [24]
спросил я.
тикового дерева. Резную.
фарфора одной даме, внушавшей полное доверие. На время.
переполненном автобусе выбил статуэтки у нее из рук ящиком с инструментом.
Фигурки были парные. Что делать? Денег у нее не было. Платить оказалось
нечем. Она хотела подержать статуэтки у себя несколько дней, полюбоваться. И
позлить приятельниц, которых собиралась позвать на бридж. Все очень
по-человечески. Правда? Но что было делать нам? Плакали наши денежки. Сами
видите, что...
неделю, потом можете вернуть обратно. А если вы ее оставите и продадите,
прибыль пополам. Ну, как?
Бронзовую фигуру я поставил у себя [25] в номере. Лоу-старший сказал мне
еще, что бронзу списали из Нью-Йоркского музея как подделку. В этот вечер я
остался дома. Стемнело, но я не зажигал света. Лег на постель и стал
смотреть на фигуру, которая стояла перед окном. За то время, что я пробыл в
Брюссельском музее, я усвоил одну истину: вещи начинают говорить, только
когда на них долго смотришь. А те вещи, которые говорят сразу, далеко не
самые лучшие. Блуждая ночью по залам музея, я иногда забирал с собой
какую-нибудь безделушку в темный запасник, чтобы там ее ощупать. Часто это
были бронзовые скульптуры, и так как Брюссельский музей славился своей
коллекцией древней китайской бронзы, я с разрешения моего спасителя иногда
уносил в запасник какую-нибудь из фигур. Я мог себе это позволить, поскольку
сам директор зачастую брал домой для работы тот или иной экспонат. И если в
музее недосчитывались какой-нибудь скульптуры, он говорил, что она у него.
тому же я провел много ночей у музейных витрин и узнал кое-что о фактуре
старых окисей, хотя никогда не видел их при дневном свете. Но как у слепого
вырабатывается безошибочное осязание, так и у меня за это время появилось
нечто похожее. Конечно, я не во всех случаях доверял себе, но иногда я был
совершенно уверен в своей правоте.
очертания и рельефы были чересчур определенны, что, возможно, как раз и не
понравилось музейным экспертам, но все же она не производила впечатления
позднейшей подделки. Линии были четкие. А когда я закрыл глаза и начал
обстоятельно, очень медленно водить пальцами по фигуре, ощущение, что бронза
настоящая, еще усилилось.
сперва говорили, что это копия эпохи Тан или Мин. Дело в том, что китайцы
уже во времена Хань, то есть примерно с начала нашего лето-счисления,
копировали и закапывали в землю свои скульптуры эпохи Шан и Чжоу. Поэтому по
патине трудно [26] было определить подлинность работы, если в орнаменте или
в отливке не обнаруживали каких-либо характерных мелких изъянов.
голоса судомоек, постукиванье мусорных урн и мягкий гортанный бас негра,
который эти урны выносил. Вдруг дверь распахнулась. В освещенном
четырехугольнике я различил силуэт горничной, увидел, как она отпрянула
назад, крикнув:
приготовил себе постель.
не стану выносить! Ни за что. Выносите сами. В доме хватает уборных.
глубокая ночь. И я сразу не мог сообразить, где нахожусь. Потом увидел
бронзу, и мне на минуту показалось, что я снова в музее. Я сел и начал
глубоко дышать. Нет, я уже не там, неслышно говорил я себе, я убежал, я
свободен, свободен, свободен. Слово "свободен" я повторял ритмично: про
себя, а потом стал повторять вслух - тихо и настойчиво; я произносил его до
тех пор, пока не успокоился. Так я часто утешал себя в годы преследований,
когда просыпался в холодном поту. Потом я поглядел на бронзу:
почувствовал, что бронза живая. И не из-за своей формы, а из-за патины.
Патина не была мертвой. Никто не наносил ее нарочно, никто не вызывал
искусственно, травя шероховатую поверхность кислотами, патина нарастала сама
по себе, очень медленно, долгие века; поднималась из воды, омывавшей бронзу,
и из земных недр, минералы которых срастались с ней; первоосновой патины
были, очевидно, фосфорные соеди[27] нения, на что указывала незамутненная
голубая полоска у основания скульптуры, а фосфорные соединения возникли
сотни лет назад из-за соседства с мертвым телом. Патина слегка поблескивала,
как поблескивала в музее неполированная бронза эпохи Чжоу. Пористая
поверхность не поглощала свет, подобно поверхности бронзовых фигур, на
которые патину нанесли искусственно. Свет придавал ей некоторую
шелковистость, делал ее похожей на грубый шелк-сырец.
тишине, весь отдавшись созерцанию, которое мало-помалу заглушало во мне все
мысли и страхи.


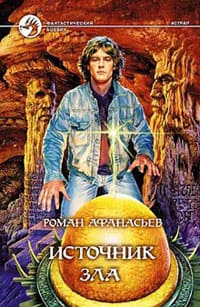
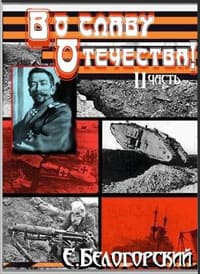


 Василенко Иван
Василенко Иван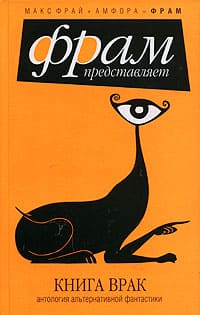 Афанасьев Роман
Афанасьев Роман Куликов Роман
Куликов Роман Самойлова Елена
Самойлова Елена Афанасьев Роман
Афанасьев Роман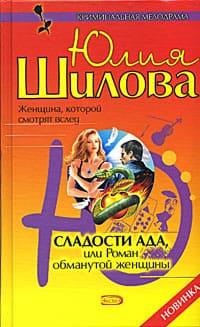 Шилова Юлия
Шилова Юлия